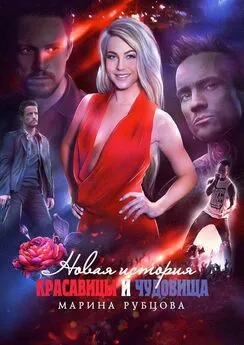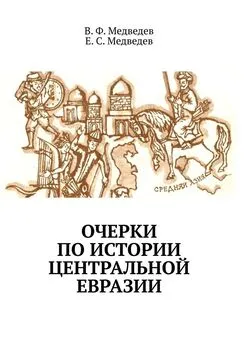Марина Могильнер - Новая имперская история Северной Евразии. Часть II
- Название:Новая имперская история Северной Евразии. Часть II
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ab Imperio
- Год:2017
- ISBN:978-5-519-51104-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марина Могильнер - Новая имперская история Северной Евразии. Часть II краткое содержание
Новая имперская история Северной Евразии. Часть II - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Катастрофический дефицит обратной связи петроградских властей (и Временного правительства, и Совета) с обществом проявился в радикализации политической обстановки «сверху». В ситуации, когда степень общественной поддержки измерялась лишь массовостью демонстраций и лозунгами митингов, петроградские власти пытались угадать, чего бы хотели их «избиратели», которые, на самом деле, никого и не избирали. Поэтому они вбрасывали лозунги, которые сами считали популярными у «масс».
Характерным примером может служить обещание радикальной земельной реформы. В отличие от ситуации 1905 г., когда в центральных регионах империи, после двух неурожайных лет, под финансовым гнетом выкупных платежей (наследия реформы 1861 г.), в условиях неправильно организованного трехпольного севооборота крестьяне видели выход в расширении своих земельных наделов, никакого «земельного голода» в 1917 г. в деревне не ощущалось. Не то чтобы кто-то возражал против дополнительной дармовой собственности, но сама социально-экономическая логика изменилась настолько, что решение насущных проблем перестало связываться с расширением землепользования. В результате столыпинской реформы крестьянство получило возможность существенно увеличить наделы путем покупки и аренды, проект «общественной агрономии» открыл возможности интенсификации хозяйства на имеющейся земле, массовый призыв трудоспособных мужчин в армию оставил хозяйства без работников, накачка деревни деньгами при одновременном расстройстве рынка лишала стимулов производить излишки продуктов. Крестьянские хозяйства год от года сокращали площади посевов на имеющейся у них земле — но идеологизированные лидеры социалистических партий полагали, что крестьян интересует не справедливый баланс цен на зерно и городские товары, а помещичья земля.
Вместо того чтобы предоставить крестьянам голос по самому широкому кругу вопросов (не ограниченному искусственно «сословными» интересами) через демократические выборы парламента, лидеры советов, а с мая 1917 г. и Временное правительство продвигали идею радикального обобществления земли. Поначалу «революционизация» деревни шла с трудом. В марте, после ликвидации прежней администрации, включая полицию, повсеместно прошла замена волостных правлений новыми «исполнительными комитетами». Неприязнь к крупным землевладельцам выражалась, главным образом, в изъятии у них крестьянами огнестрельного оружия: городские легенды о пулеметах, из которых якобы городовые расстреливали демонстрантов с чердаков, захватили воображение и деревенских жителей. В апреле прошли первые крестьянские съезды, организованные городскими советами. Отобранные ораторы из числа советских функционеров не могли и не хотели обсуждать практические вопросы, вроде статуса арендованных земель, но горячо призывали к конфискации поместий (главным образом, уже находившихся в аренде у крестьян). Следуя ритуалу революционного митинга, крестьян пытались заставить исполнять революционные песни, которых они не знали и вместо них с чувством пели «Христос воскресе из мертвых» (Пасха пришлась в 1917 г. на 2 (15) апреля). Наконец, в мае (после назначения лидера эсеров Виктора Чернова министром земледелия) начали приходить сведения о нарастании беспорядков в деревне — но не тех, которые ожидали городские активисты по опыту 1905 г. Крестьяне собирались на сходы и принимали решения об изгнании участковых агрономов, учителей и участковых врачей — все для того, чтобы не платить земские налоги. Причем происходило это не в «медвежьих углах», а в таких губерниях, как Харьковская, известная своим прогрессистским земством, финансировавшим амбициозные программы развития деревни. Исключение составил лишь Лебединский уезд губернии, в котором агрономы не участвовали в реквизициях крестьянского зерна в рамках начатой в конце 1916 г. политики «продразверстки», которую продолжило Временное правительство.
И только осенью 1917 г. начались погромы чужой собственности: помещиков, «столыпинских крестьян», вышедших из общины на хутора, земских опытных станций — без разбора. Происходило это за несколько месяцев до открытия Учредительного собрания, на котором, как было заранее обещано Временным правительством и советскими лидерами, должна была быть принята радикальная земельная реформа, перераспределявшая весь земельный фонд в интересах «трудовых крестьянских хозяйств». Так что правительственная пропаганда революционного переворота в деревне не имела прямого отношения к настроениям крестьян ни весной, ни осенью 1917 г., а уж тем более не была спровоцирована ими. На протяжении 1917 г. c деревней происходило то же, что с этнонациональными проектами и политическими движениями: постепенное сужение сферы локальной солидарности при одновременно нарастающем отторжении «чужаков». Развивавшееся по принципу «каждый сам за себя» бывшее имперское общество, лишенное всяких механизмов координации и посредничества, рано или поздно должно было прийти к состоянию межгрупповых конфликтов. Удивительно, что потребовалось более полугода, прежде чем стихийное размежевание перешло в стадию непримиримого противостояния, а место единого имперского общества, действующего в локковской логике, заняло гоббсовское состояние войны «всех против всех».
Сначала «все» означали «всех своих» в рамках пространства локальной солидарности: всех рабочих, или социалистов, или мусульман. Но формальное «социологическое» единство не гарантировало идентичной реакции членов сообщества на изменяющиеся обстоятельства. Поэтому с каждым месяцем усиливалось внутреннее размежевание внутри групп солидарности по конкретным вопросам и конфликты с альтернативными проектами. После февральской революции оппонентов неизменно объявляли «контрреволюционными», в том же смысле, как называли бы «антигосударственными» при авторитарном режиме: если в обществе отсутствуют институты достижения компромисса, любая оппозиция воспринимается как угроза заведенному порядку. На практике даже военные заговорщики действовали как одна из локальных инициатив общественной самоорганизации, сообщество солидарности «своих». В колоссальной имперской армии военного времени не оказалось готовых собственно армейских структур, способных вмешаться во внутреннюю политику. Лишь после большевистского путча, к январю 1918 г., начал складываться костяк сообщества профессиональных военных, не согласных с режимом Совнаркома. Поодиночке и мелкими группами в несколько тысяч человек (не более 2-3% от общего числа офицеров) добирались в Новочеркасск (центр Донской области), где формировалась Добровольческая армия — типичный образец общественнической самоорганизации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: