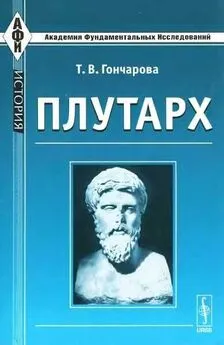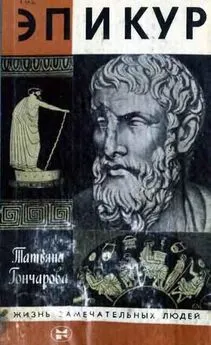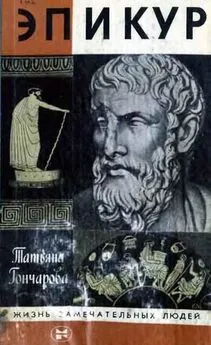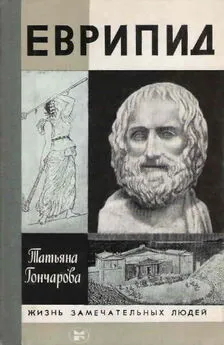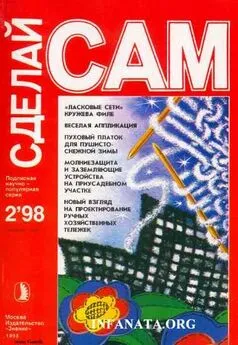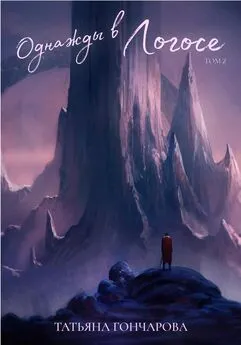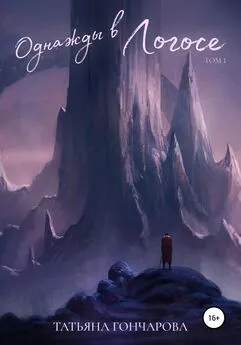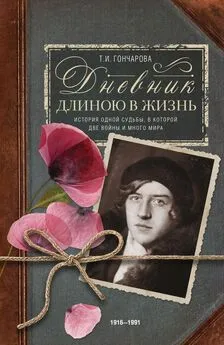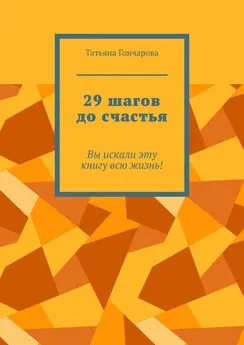Татьяна Гончарова - Плутарх
- Название:Плутарх
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КомКнига
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-484-01193-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Гончарова - Плутарх краткое содержание
Книга будет интересна не только философам и историкам, но и просто любителям повествований о древности.
Плутарх - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Зато все большим очарованием наполнялась для него родная беотийская земля — пологие склоны, старые вязы и дубы, «эпические луга и тенистые рощи, а с ними и тропы, осененные плющом и вьюнком». Платон запечатлел навеки в своих диалогах речушку Илис, «и вербену, и плавный подъем холма, поросшего мягкой травой». Так и через все писания Плутарха проходит образ оскудевшей, но бесконечно дорогой для него родины, о чем он так писал своему римскому другу: «А я полагаю, Сосий, что для того, кто стремится к подлинному счастью, которое зависит в основном от душевного склада и образа мыслей, то, что он родился в неприметном маленьком городке, столь же несущественно, как если бы мать его была малоросла и некрасива». Уже давно невозвратимо изменилась вся жизнь Эллады, с ее захиревшими городами и обезлюдевшими селениями, но для Плутарха, работавшего целыми днями над своими сочинениями, эта жизнь словно бы и не кончалась. Опять стекались в его писаниях празднично одетые люди на старинные празднества, великие поэты представляли на суд сограждан свои неповторимые трагедии, состязались атлеты во славу Геракла и десятки кифаредов наполняли синее пространство исторгнутыми из самой души мелодиями, которые, как верил Плутарх, были соединены навечно с музыкой небесных сфер.
Во вступлениях к жизнеописаниям Плутарх не раз писал о том, что начинает этот труд или по просьбе кого-то из друзей, или же для того, чтобы теперешнее поколение училось «науке жизни человеческой» на примере лучших людей прошлого. Но думается, что главная причина состояла в том, что для Плутарха самого было жизненно необходимо постоянно соприкасаться с прошлым, чтобы не иссякали силы воздействовать чем можно на настоящее и верить в будущее. Год за годом он работал над биографиями выдающихся людей, старясь разобраться, что же двигало ими, что составляло сущность их натуры и как эта сущность, от них самих не зависящая, повлияла и на их собственную жизнь, и на судьбу их родины. «Мы пишем не историю, а жизнеописания, — специально подчеркивает Плутарх в биографии Александра Македонского, — и не всегда в самых главных деяниях бывает видна добродетель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, руководство огромными армиями и осады городов».
Более четырехсот лет назад честный старец Фокион, один из последних подлинно свободных афинян, «управлял лишь обломками государственного корабля». Плутарху, одному из последних эллинов, выпало поддерживать своих соотечественников уже после того, как корабль затонул. Греки доигрывали последнее действие на том театре жизни, о котором говорил своим ученикам Платон, призывая их как можно дольше и как можно лучше играть предназначенные роли. Современники Плутарха доигрывали, не забывая «прислушиваться к подсказчику, чтобы не выйти из меры и границ свободы, данной им руководителями игр». «Если ты собьешься, — писал об этом Плутарх в „Наставлении о государственных делах“, — тебя ждет ни свист, ни смех, ни пощелкивание языков; многих уж постиг топор-головосек, судья безжалостный…»
Глава 7. Во славу бессмертного Локсия
Для мудрого его век также долог,
как для богов — вечность.
Луций Анней СенекаСвои последние годы Плутарх жил в Дельфах, близ святилища Аполлона, куда с незапамятных времен устремлялись и отдельные граждане, и посланцы целых народов, чтобы вопросить оракула о своей судьбе. Прожив шестьдесят лет как подобает истинному эллину, Плутарх надеялся в этом последнем пристанище совершенно отрешиться от течения жизни вокруг, в которой было уже никому ничего не исправить, и остаться, наконец, наедине с божеством в священном уголке Эллады. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что ему удалось до конца своих дней остаться тем самым мудрецом, в жизни которого (как писал об этом столь нелюбимый им Эпикур) случай не играет решающей роли и все в ней устраивает разум. Канули в прошлое те времена, когда неистовый в своей ненависти афинянин Демосфен объезжал города, поднимая греков на последнюю битву с македонцами. Теперь было некому и не с кем воевать, и единственное, что мог противопоставить Плутарх неумолимости истории, так это надежду на милость божества и неискоренимую любовь к отчизне. Неподвластный жажде денег и стремлению властвовать, следуя примеру философов прошлого, он навсегда покидает городское многолюдство, как покинул его в свое время Гераклит, чтобы ничто не мешало ему слушать в тысячезвездной азийской ночи голос вселенского Логоса. Плутарх отправляется в Дельфы служить Аполлону, по всей вероятности, азийскому богу, доставшемуся грекам от людей, которые обитали здесь задолго до них, и включенному ими в семью олимпийцев. Аполлон был покровителем музыкантов и поэтов, ему подчинялись Музы. В ниспосланном богом экстазе поэты порой казались безумными. И лишь немногим, таким, как Платон, слышался в их смутных речениях голос самого Аполлона: «Потому-то бог и отнимает у них рассудок и делает их своими слугами, вещателями и божественными прорицателями, чтобы мы, слушатели, знали, что это не они, у кого и рассудка-то нет, говорят такие ценные вещи, а говорит сам бог и через них подает нам голос».
Устами старухи-пифии, надышавшейся серными парами, Аполлон открывал смертным будущее и долгое время был главным советчиком греков и прибывающих из Малой Азии. «Прорицательница в Дельфах, — писал об этом Платон, — в исступлении сделала много хорошего для Эллады, и отдельным людям, и целым народам». Так было во время нашествия персов, когда афинянин Фемистокл, верно истолковав слова оракула о спасительных деревянных стенах, посадил свой народ на корабли и вывез на острова, оставив врагу пустой город. Спартанскому царю Леониду было предсказано, что смертью своей спасет он Элладу, и эти слова сбылись в Фермопильском ущелье, где он преградил со своими тремястами воинами путь варварским полчищам. Пифия оказалась права и когда на вопрос Софрониска, каменотеса из Афин, как ему следует воспитывать сына, ответила: предоставь ребенку быть таким, как он есть. Этим сыном был мудрейший из греков, ни на кого не похожий Сократ.
Речения пифии были двусмысленны, и чтобы понять их правильно, следовало прежде всего отрешиться от самообольщения. И тогда для злосчастного Креза, властителя Лидии, стало бы ясно, что в войне, об исходе которой он спрашивал, он погубит собственное царство. А римлянин Марк Туллий Цицерон, также вопрошавший оракула о собственной судьбе, догадался бы, что для него будет безопаснее и лучше предпочесть философию политике. В течение многих веков устремлялись сюда вопрошающие, пока постепенно вся их общая жизнь подошла к такому рубежу, что, как оказалось, спрашивать больше не о чем, да и знать ни о чем не хотелось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: