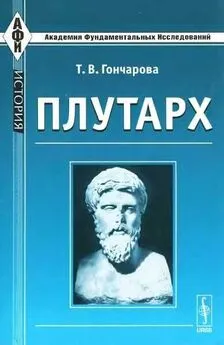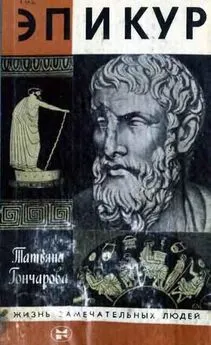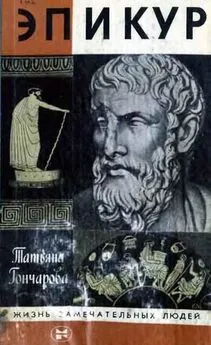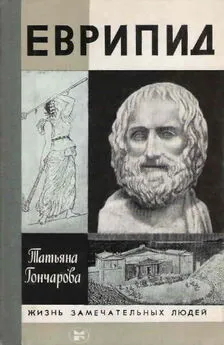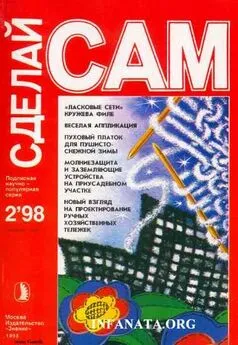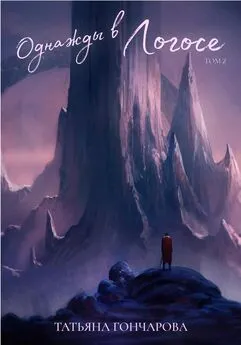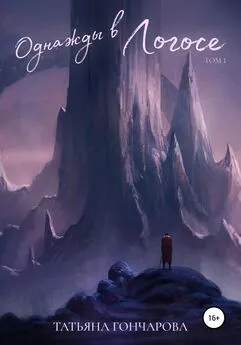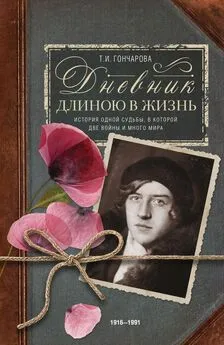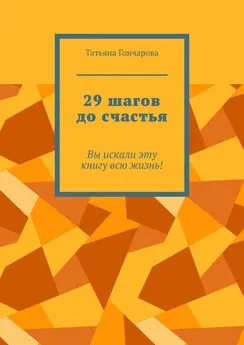Татьяна Гончарова - Плутарх
- Название:Плутарх
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:КомКнига
- Год:2010
- Город:Москва
- ISBN:978-5-484-01193-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Гончарова - Плутарх краткое содержание
Книга будет интересна не только философам и историкам, но и просто любителям повествований о древности.
Плутарх - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Боги помогают не всем, но только наиболее достойным — так отвечает Плутарх и на другой вопрос, который чаще всего задают сомневающиеся: если бог есть, то почему же он глух к страданиям смертных? «Боги украшают жизнь только немногих людей, — пишет он, ссылаясь на Гесиода, — тех, кого они пожелают сделать поистине блаженными и сопричастными божественности». Именно души таких людей, после того как утратят связь с телом, становятся демонами — хранителями. Демоны, в свою очередь, тоже пекутся лишь о лучших: «Подобно тому, как любитель лошадей не всем своим лошадям уделяет равную заботу, но, выбрав среди них лучшую, упражняет, и кормит, и опекает особо, — прибегает Плутарх, как обычно, к простому житейскому сравнению, — так и существа, стоящие выше нас, отмечают из множества людей лучших и удостаивают их особого усиленного руководительства, направляя их не уздой и поводами, а знаниями, воспринимаемыми разумом». Об этом же писал и Сенека: «Ведь бог близ тебя, с тобою, в тебе… в нас заключен некий божественный дух, наблюдатель и страж всего хорошего и дурного, и как мы с ним обращаемся, так и он с нами». Но ни Плутарх, ни Сенека, как и многие мудрые до них, так и не смогли объяснить, почему же обычно побеждают худшие и злые, а не добродетельные и справедливые? Они так и не нашли ответа на этот вопрос, но, не усомнившись в благом начале мира, возлагали ответственность за зло прежде всего на самого человека…
Среди сочинений, написанных Плутархом в Дельфах, диалоги «О позднем возмездии божества» и «О любви», в которых он размышляет о сущности древних богов и спасительной силе веры. Особенно часто он обращается к Эроту как к главнейшему из богов, которого египтяне считали сродни солнцу и под воздействием которого «душа быстро приходит к дружбе и добродетели, как бы несомая на волне страсти вместе с богом». Чем дальше шли его годы, тем очевиднее становилось для Плутарха, что именно Любовь — любовь к избранной женщине, к родителям, к детям, к людям вообще есть та основа, на которой зиждется мир, и, может быть, даже его конечная цель. Не говоря уже о том, что Эрот, который считался посредником между миром земным и небесным, пробуждает «прекрасные и священные воспоминания об истинной родине человеческих душ», в которую, следуя Платону, хотел верить и Плутарх: «Подобно тому, как геометры, обращаясь к ученикам, еще не способным представить себе умопостигаемые предметы, показывают им осязаемые и зримые, воспроизведенные подобия шаров, кубов, додекаэдров, так и небесный Эрот, изощряясь в очертаниях, красках и формах, показывает нам в блистающих молодостью образах отражения прекрасного… и так постепенно пробуждает нашу разгорающуюся память».
Последние годы Плутарха пришлись на спокойные времена, когда в Риме и провинциях воцарились наконец-то долгожданный мир и порядок. Император Траян продолжал укреплять государство, прижавшееся, по словам Плиния Младшего, к его мужественной груди. Еще недавно казалось, что Риму уже никогда не увидеть не бутафорские триумфальные колесницы, но подлинное, напоминающее о прежней славе «триумфальное шествие, загруженное не награбленным в провинциях и не исторгнутым у союзников золотом, но оружием, отнятым у варваров». Когда после пятилетнего сопротивления покончил с собой Децебал и Дакия, превращенная в провинцию, стала заселяться колонистами из Анатолии, на северо-восточных границах империи надолго установилось затишье. На новом форуме в Риме, между Капитолием и Квириналом, была воздвигнута колонна, украшенная рельефными изображениями поверженных даков, а взоры Траяна обратились на восток, туда, где за уже покоренными землями персов и парфян лежали какие-то неведомые золотообильные страны. Куда так и не дошел Александр, потерявший в этом последнем походе три четверти войска. Значки римских легионов снова запестрели на азийских равнинах: в 114 году была занята и объявлена провинцией Армения, в следующем году, несмотря на страшное землетрясение, император повелел строить флот на Евфрате для последующего покорения Месопотамии.
Оживала и Италия. Восстанавливались дороги, пришедшие в негодность при последних Клавдиях, и вновь товары из самых разных мест стали появляться на рынках даже не очень больших городов. В самом Риме дети из неимущих семей ежемесячно получали пособие, к раздачам хлеба для нескольких тысяч бедняков Траян велел добавить масло и вино. И вот уже Плиний Младший с воодушевлением пишет о том, как обживаются снова выморочные имения (хозяева многих из них были искоренены Тиберием, Нероном, Домицианом), как «на места прежних знатных господ в их гнезда поселяются новые хозяева, и убежища славнейших мужей уже не представляют собой печального зрелища».
Он пишет об этом с радостью, как и о других признаках возрождения Италии, словно не понимая или же не желая понимать, что это была уже другая Италия, так же как становился другим Рим, где от прежнего скоро останутся только памятные арки и колонны. Все больше становилось людей, понаехавших из восточных и западных провинций, на них в основном делали ставку последние императоры, стремясь «стягивать лучшие силы отовсюду». При этом они ссылались на то, что уже Ромул при основании Вечного города «отличался столь выдающейся мудростью, что видел во многих народностях сначала врагов, потом граждан».
При Траяне высокие государственные должности все чаще занимали способные или же просто богатые люди из Ахайи, Египта, северной Африки и Анатолии. Воспрянувшие духом провинциалы не уставали благодарить богов за то, что судьба им послала, наконец, рачительного и справедливого хозяина, не разнузданного деспота или полоумного царька, а подлинного императора, возрождающего своими делами первоначальное, столько раз оскверненное и униженное значение этого слова. Плутарху, как и Плинию Младшему, представляются особенно достойными похвалы усилия Траяна по укреплению империи, превращению ее в единый жизнеспособный организм, для чего он даже «кормит и спасает отрезанные… морями племена как неотъемлемую часть римского народа». Плутарх надеялся прежде всего на дальнейшие благоприятные изменения для греков, и для этого, казалось, имелись основания. Сам он был отмечен особой благосклонностью Траяна, который посещал его лекции по философии в Риме и тогда уже проникся глубоким уважением к ученому и возвышенному духом беотийцу. Став императором, он пожаловал Плутарху звание консуляра и предписал наместникам Ахайи прибегать к его советам в делах особой важности.
Сохранилось сочинение Плутарха «О царях и военачальниках» со следующим посвящением: «Плутарх Траяну, высочайшему монарху, с пожеланием успеха и благополучия». Этот труд, представляющий собой ряд небольших биографий, он сравнивает с теми первинами простых сельских плодов, которые подносили в старину своим богам спартанцы, и выражает надежду на понимание и милость императора. Рассказывая о выдающихся правителях и военачальниках различных времен и народов, о персидских и скифских царях, сицилийских тиранах и беотийских стратегах, Плутарх, как обычно, приводит их достопамятные афоризмы, вроде следующего, принадлежащего якобы Ксерксу: «Не имеет права управлять тот человек, который не является лучшим, чем народ, которым он управляет». Он припоминает меткие сравнения, дошедшие сквозь толщу веков, поучительные эпизоды из жизни людей, чьими свершениями был размечен, как придорожными вехами, долгий путь от египетских фараонов до римских императоров. Он надеется, что новый император, «украшенный истинной и прочной славой, принесший всеобщий мир», учтет и успехи, и промахи своих предшественников у кормила государственной власти или хотя бы немного развлечется чтением этого сочинения среди государственных трудов. Чуждый верноподданнического пиетета, он обращается к Траяну с простодушной сердечностью благожелательного учителя. И даже если Плутарх был действительно удостоен каких-то особых императорских милостей, он вряд ли ими пользовался: дела божественные интересовали его все больше, чем государственные, а убывающих сил хватало только на тот огромный труд, который остался нетленным памятником всему их уходящему миру.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: