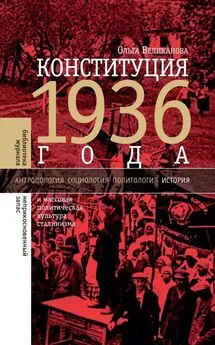Николай Кедров - Лапти сталинизма
- Название:Лапти сталинизма
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политическая энциклопедия
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-1815-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Кедров - Лапти сталинизма краткое содержание
Лапти сталинизма - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дебаты отечественных «тоталитаристов» и приверженцев социальной истории, безусловно, оказали позитивное воздействие на развитие современной российской исторической науки, поскольку привлекли внимание исследователей к изучению механизмов взаимодействия между государством и обществом в СССР. Однако при этом значительно упрощается и сужается круг вопросов, задаваемых историком прошлому, что сводит историческое исследование к поиску аргументов для доказательства прогрессивности или регрессивности сталинизма. Сам по себе вопрос о том, что в прошлом было хорошо, а что плохо, по нашему мнению, глубоко внеисторичен, ибо априорно предполагает обращение историка не к анализу фактов и процессов, а к миру собственных субъективных оценок. К тому же в спорах представителей этих направлений все более сказывалось пренебрежительно-снисходительное отношение к историческим источникам. Российских приверженцев тоталитарной модели, как и их зарубежных предшественников, отличает тяга к сдергиванию завесы с тайн истории и разгадыванию сталинских секретов. Так, одной из основных идей И. В. Павловой, высказанных в ее монографии, стала мысль о законспирированности сталинской системы власти: «Механизм сталинской власти в 30-е годы — способ принятия решений и передачи их из Центра на места — представлял собой настолько законспирированную систему, что она не оставила практически никаких следов» [31] Павлова И. В. Механизм власти. С. 20. В другом месте своей книги И. В. Павлова пишет: «События 30-х гг. в России еще долго будут вызывать споры и неоднозначную реакцию. В это десятилетие партийное государство, становление которого произошло в 20-е гг., настолько законспирировало свою деятельность, что до сих пор не только не удается подтвердить многие действия сталинской власти, но и понять их подлинный смысл» (Там же. С. 436). Если следовать этой логике, получается, что для того чтобы понять «подлинный смысл» событий, вовсе необязательно подтверждать их документально.
. Если от предмета изучения не осталось никаких следов — возникает вопрос: на основе чего автор строит свое исследование? С другой стороны, А. К. Соколов безгранично доверяет официальным советским источникам. Например, доказывая, что «содержание самой
Конституции [имеется в виду Конституция СССР 1936 года. — Н. К. ] никак не соответствует тоталитарной модели», он пишет: «По демократизму своего содержания Конституция 1936 года превосходила все созданные до этого законодательные акты. В этом заключалась ее сила воздействия на общество» [32] Соколов А.К. Курс советской истории. М., 1996 С. 225.
. Сам по себе этот факт неоспорим, но какое отношение он имеет к реальным политическим практикам сталинизма? У обоих авторов критический анализ источников становится словно бы излишним. В первом случае, поскольку документы бездоказательно лживы, во втором, потому что они безоговорочно верны и не требуют предварительной критики. Учитывая эти особенности современных «тоталитаристко-ревизионистских» дискуссий, их продолжение в заданных рамках представляется нам занятием бессмысленным. Современное состояние дискуссий в вопросе о политическом режиме в СССР таково, что требует от обратившихся к этой проблеме исследователей поиска новой методологической платформы. Как нам представляется, выход из этой сложившейся ситуации возможен на основе обращения к изучению жизненного опыта «маленького человека» в условиях тоталитаризма [33] В вопросе о применимости термина «тоталитаризм» мы согласны с мнением Ю. И. Игрицкого, который на протяжении многих лет выступал беспристрастным арбитром в «тоталитаристско-ревизионистских» научных баталиях. В частности, он указывал на то, что популистски-критическое использование этого термина рядом российских и зарубежных авторов вовсе не отрицает его высокое познавательное значение (см. выступление Ю. И. Игрицкого на заседании круглого стола «Советское прошлое: поиски понимания» (Отечественная история. 2000. № 4. С. 112), а также его статью «Снова о тоталитаризме» (Отечественная история. 1993. № 1). Некоторые авторы как альтернативу «тоталитаризму» сегодня используют понятие «сталинизм». Однако последний термин, выводя всю объяснимую им реальность из одного единственного случая (СССР 1930-50-х годов), как и любая персонифицированно окрашенная дефиниция (например, цезаризм, бонапартизм, рейганомика и т. д.), не может претендовать на искомую научную универсальность. Сталинизм можно рассматривать как частное проявление тоталитаризма. Вместе с тем это не отрицает необходимости дальнейшего анализа и уточнения природы и сущности явлений, вкладываемых в это понятие.
, то есть той аналитической модели, которую предложил С. Коткин.
Вместе с тем следует отметить, что в 1990-е — 2000-е годы в российской исторической науке продолжалось концептуальное и эмпирическое осмысление проблемы сталинизма. Важное значение для понимания природы сталинского режима имеют работы О. В. Хлевнюка [34] Хлевнюк О. В. Сталин и Орджоникидзе. Конфликты в Политбюро в 30-е годы. М., 1995; он же. Политбюро. Механизмы политической власти в 1930-е годы. М., 1996.
. Своеобразным итогом исследований этого автора на сегодняшний день стала книга «Хозяин. Сталин и становление сталинской диктатуры», в которой проанализирован механизм принятия внутриполитических решений руководством СССР в 1930-е годы [35] Он же. Хозяин. Сталин и утверждение сталинской диктатуры. М., 2010.
. О. В. Хлевнюк приходит к выводу, что в основе функционирования этого механизма лежали не политические программы и пристрастия отдельных политических лидеров, а ведомственные интересы, личные взаимоотношения и клиентно-патрональные связи, невидимыми нитями опутывавшие советское политическое руководство. И. В. Сталин, выполняя в этой системе роль арбитра, сосредоточил в своих руках основные рычаги власти и являлся инициатором всех принципиальных политических решений. На сегодня эта работа О. В. Хлевнюка является, пожалуй, наиболее полным исследованием функционирования институтов власти высшего уровня и внутренней политики сталинского режима. В последние годы появились исследования и по другим важным аспектам советской истории «решающего десятилетия». Среди них вопросы функционирования советской экономики [36] Осокина Е. А. За фасадом «сталинского изобилия». Распределение и рынок в снабжении населения 1927–1941 гг. М., 2008; она же. Золото для индустриализации; Торгсин. М., 2009; Быстрова И. В. Советский военно-промышленный комплекс: проблемы становления и развития (1930-1980-е годы) М., 2006 и др.
, место и роль ГУЛАГа в системе советского государства [37] Иванова Г. М. История ГУЛАГа, 1918–1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. М., 2006; Упадышев Н. В. ГУЛАГ на Европейском Севере России: генезис, эволюция, распад. Архангельск, 2007 и др.
, проблемы внешней политики и внешнеполитические стереотипы советской политической элиты [38] Кен О. Н. Мобилизационное планирование и политические решения (конец 1920 — середина 1930-х годов). СПб., 2002; Рупасов А. И. Гарантии. Безопасность. Нейтралитет. СССР и государства-лимитрофы в 1920-х — начале 1930-х гг. СПб., 2008; Чубарьян А. О. Канун трагедии. Сталин и международный кризис. Сентябрь 1939 — июнь 1941 гг. М., 2008 и др.
. Особое внимание историков привлекает тема сталинских репрессий [39] Папков С. А. Сталинский террор в Сибири. 1928–1941. Новосибирск, 1997; Ватлин А. Ю. Террор районного масштаба: массовые операции НКВД в Кунцевском районе Московской области 1937–1938 гг. М., 2004; Мозохин О. Б. Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов го сударственной безопасности (1918–1953). М., 2006; Юнге М., Бордюгов Г., Биннер Р. Вертикаль большого террора. История операции по приказу НКВД № 00447. М., 2008; Хаустов В., Самуэльсон Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936–1938 гг. М., 2009; Петров Н. В. Палачи. Они выполняли заказы Сталина. М., 2011 и др.
. Исследователи в буквальном смысле проследили «вертикаль Большого террора» — от кремлевских кабинетов до застенков районных отделений НКВД. В итоге современная историография значительно расширяет наши представления о механизмах функционирования сталинского государства. Однако этого недостаточно для понимания природы сталинского режима. Дело в том, что характер последнего определяется соотношением трех системообразующих элементов политической системы: государства, общества и личности. Место двух последних в политической системе сталинизма также нуждается в объективном историческом осмыслении.
Интервал:
Закладка:
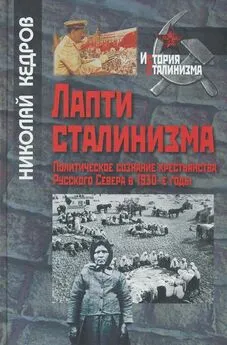

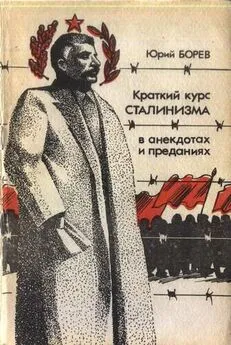
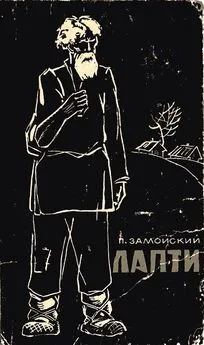
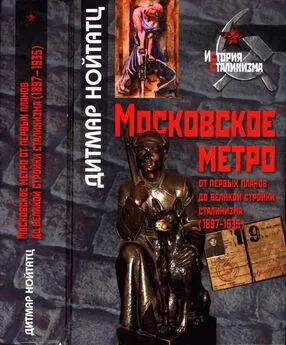

![Олег Хасянов - Повседневная жизнь советского крестьянства периода позднего сталинизма.1945–1953 гг. [litres с оптимизированной обложкой]](/books/1145046/oleg-hasyanov-povsednevnaya-zhizn-sovetskogo-krestya.webp)