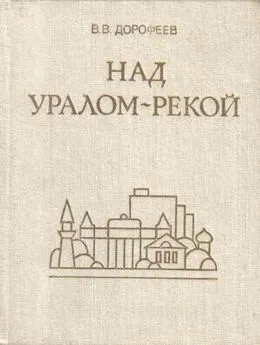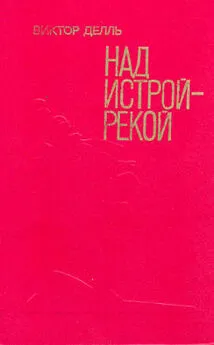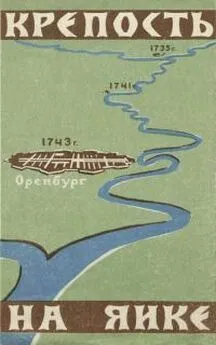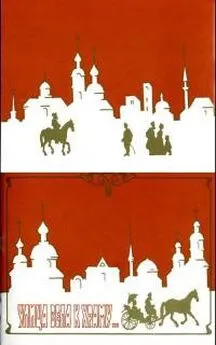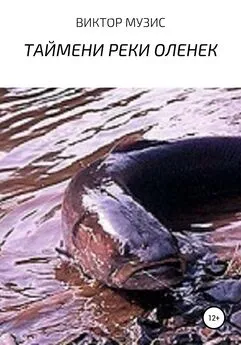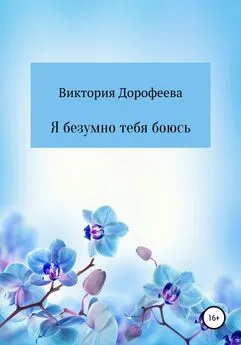Виктор Дорофеев - Над Уралом-рекой
- Название:Над Уралом-рекой
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Южно-Уральское книжное издательствово
- Год:1988
- Город:Челябинск
- ISBN:5-7688-0070-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Дорофеев - Над Уралом-рекой краткое содержание
Рассчитана на широкий круг читателей.
Над Уралом-рекой - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В это же десятилетие большая беда постигла Оренбург. 1848 год в России был отмечен холерой, которая шла с Каспия вверх по Волге и Уралу. Оренбург особенно сильно пострадал от нее: за шесть недель в городе с восемнадцатитысячным населением погибло 2800 человек. Распространению эпидемии в значительной степени способствовали низкий санитарный уровень города и сильная жара. Очевидец этих событий И. Бларамберг, служивший здесь уже около шести лет, так описывает бедствие: «Когда я выходил на улицу, меня обдавал горячий ветер, дувший словно из печи. Над городом, окруженным валами, постоянно висело облако мелкой пыли. Воздух был раскален, термометр показывал 33 градуса по Реомюру (несколько более 41 градуса по шкале Цельсия. ― В. Д.) в тени. На улице ни души, кроме похоронных шествий и врачей, которые ездили в своих легких экипажах к холерным больным. Наконец число жертв возросло настолько, что их вывозили на кладбище без всякого обряда. Несколько врачей умерли, другие заболели, и в конце концов остались только два или три врача на тысячу и более больных».
Больше всего пострадали, конечно, беднейшие слои. Для них под холерный госпиталь отвели Караван-Сарай, откуда умерших «арестанты дюжинами вывозили каждую ночь на телегах», для того, чтобы, засыпав негашеной известью, закопать в общих ямах. Те из состоятельных людей, которые не были связаны со службой, постарались переждать эпидемию вне города. Сам же военный губернатор Обручев уехал в башкирские леса, затем к концу эпидемии вернулся, но устроился отдельно в кибитках на Маяке. В городе он появился только по окончании эпидемии.
Из позитивных событий этого времени важным, пусть и малозаметным, явилось открытие в 1850 году киргизской школы при Оренбургской пограничной комиссии. Это была вторая школа такого типа. Первую открыли еще в 1841 году во внутренней орде, которая находилась в междуречье Урала и Волги. Эти школы, как отмечалось в правительственных циркулярах, должны были «способствовать сближению азиатов с русскими, внушать первым любовь и доверие к русскому правительству и поставлять краю просвещенных деятелей». Конечно, предназначались они для детей верхних слоев казахского общества. Школа размещалась в одноэтажном каменном здании пограничной комиссии, которое находилось на месте дома № 7 по Советской улице. Одним из первых, окончивших ее, был Ибрай Алтынсарин.
В 1851 году было образовано Оренбургское и Самарское генерал-губернаторство. Первым высокий пост генерал-губернатора занял В. А. Перовский, который в этой связи снова вернулся в Оренбург. К этому периоду его управления, кроме уже упоминавшегося приобретения в казну для канцелярии дома Еникуцева, относится и строительство двух заметных зданий, которые объединяет то, что в отделке фасадов использован глазурованный кирпич. Это цейхгауз степного войска (Парковый 10) и «замок» на Набережной, где помещается отдел досоветского периода краеведческого музея. О последнем здании нужно сказать несколько больше. Оно возводилось для архива и казны. Построено в стиле неоготики, тогда стало модным строить в различных нео- или даже псевдостилях. В данном случае стиль с подчеркнутой строгостью форм выбран, очевидно, исходя из назначения постройки. Сравнительно малая площадь оконных проемов обусловлена тем, что в хранилищах изобилие света не нужно. Здание решено в виде нескольких разновысоких объемов, зрительно связываемых башней, функция которой, за исключением помещения для часов, чисто декоративная. Вероятно, проект выполнен в Оренбургской строительной и дорожной комиссии, откуда в июне 1854 года он был передан В. А. Перовскому, но автор пока неизвестен. Указание в одной или двух публикациях на И. Скалочкина как на автора ― заблуждение. Действительно, «Ярославской губернии, Ярославского уезда, деревни Вахрушевой, помещицы графини Кутайсовой крестьянин Иван Скалочкин» строил это здание, но в качестве подрядчика. Он же до этого брал подряд на печные работы в бывшем доме Еникуцева. Здание сначала использовалось по назначению, в середине 1870-х годов оно еще числилось как «замок, денежная кладовая» [55] ГАОО, ф. 124, оп. 2, д. 6060.
. В гауптвахту, которой являлась эта постройка до недавнего времени, здание превратили, возможно, в конце этого же десятилетия, но более вероятно после упразднения генерал-губернаторства в 1881 году.
Пятидесятые годы ознаменовались и некоторым развитием промышленности. В 1854 году московский цеховой А. Ф. Грен просит выделить место под устройство «чугунолитейного заведения». В. А. Перовскому идея понравилась, так как на заводе можно было бы изготавливать много необходимого городу, ведь, например, при ремонте бывшего дома Еникуцева пришлось одних колосников общим весом в 270 пудов заказывать на Белорецких заводах и доставлять оттуда. Генерал-губернатор по этому случаю обратился к городской думе с письмом: «Я предписываю Думе ныне же отвести в распоряжение Грена потребное для него количество земли на предположенных Думой условиях, и об исполнении мне донести». Земля Грену была выделена в размере одной десятины там, где сейчас находится станкозавод. Заведение поставляло городу трубы для водопровода, другое литье. Его приспособили и для изготовления земледельческих орудий. Так появилось первое по-настоящему промышленное предприятие города.
Шли последние годы существования Оренбургской крепости. После падения Ак-Мечети в 1853 году, Оренбургская пограничная линия была перенесена на Сыр-Дарью. Крепость, уже и до этого не слишком необходимая, стала совершенно не нужна. Крепостная ограда сдерживала развитие города и создавала ряд неудобств для жителей, ограничивая коммуникации, ухудшая проветривание в жаркое время и т. д.
Однако, несмотря на все неудобства и на то, что с 1845 года началось сооружение упомянутых выше степных укреплений, крепость сохраняли. Более того, в 1849 году даже уточнили эспланадную линию вокруг крепости, собираясь привести эспланаду в точное соответствие с положением, то есть снести все, что оказывалось ближе 130 саженей от крепости. Под снос попадала значительная часть Голубиной слободки, особенно в районе Чернореченской улицы, где черту провели почти до склона. Генеральный план, на котором показан весь предполагаемый снос, был «Высочайше утвержден» в октябре 1850 года [56] ЦГВИА, ф. 349, оп. 27, д. 2836.
, хотя вряд ли для кого было не ясным, что и сама крепость-то не нужна. Но такова уж чиновничье-бюрократическая машина: раз есть крепость, она должна быть устроена по всем правилам, даже вопреки смыслу. К счастью, все так и осталось на бумаге, а через десять лет уже официально встал вопрос о ликвидации крепости.
Началось с того, что в феврале 1859 года последовало «Высочайшее соизволение» на отношение генерал-губернатора А. А. Катенина к военному министру о срытии некоторых куртин крепости [57] ГАОО, ф. 6, оп. 6, д. 13672
. То есть крепость оставалась, но отрезки вала между некоторыми бастионами решили срыть. Мотивировалось это устранением в городе «тесноты и сгущения воздуха» и «для доставления свободного сообщения с окружающими его предместьями». Предполагалось срыть три куртины: две симметричные друг другу с восточной и западной стороны крепости на участках между улицами Петропавловской и Гостинодворской, и куртину, где были Уральские ворота. Сами ворота решили оставить «в настоящем их виде». Дело, однако, остановилось за отсутствием средств. По смете, составленной с расчетом на использование башкир, которым можно было платить поменьше, предусматривалось 4034 р. 16 коп. Таких денег у города не было, и городской голова Деев предложил в тех местах, где будет срыт вал, продавать участки на эспланадной площади под строительство и за этот счет производить работы. На это снова потребовалось испрашивать разрешение. К осени 1859 года составили смету на срытие и остальных куртин, причем плату башкирам «за урок» снизили с 15 до 10 копеек. Сменивший в 1860 году Катенина генерал-губернатор А. П. Безак предложил городской думе «составить подписку» на денежные пожертвования для срытия вала. По подписке собрано было 2853 р. 10 коп., при этом интересно, что дворяне, чиновники и разночинцы пожертвовали только 30 рублей.
Интервал:
Закладка: