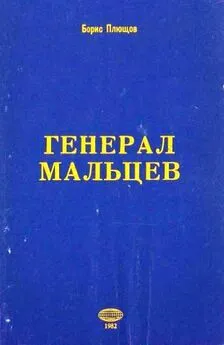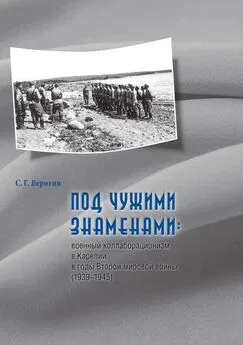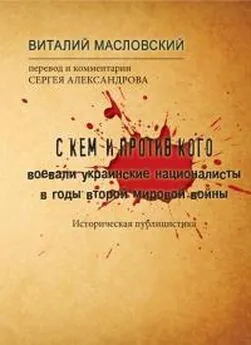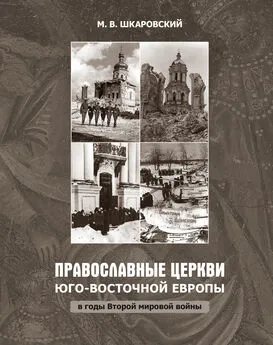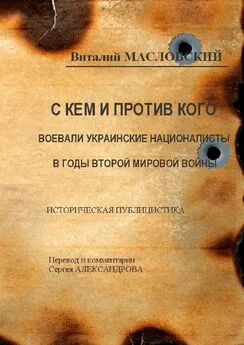Сергей Веригин - Предатели или жертвы войны: коллаборационизм в Карелии в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг.
- Название:Предатели или жертвы войны: коллаборационизм в Карелии в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПерГУ
- Год:2012
- Город:Петрозаводск
- ISBN:978-5-8021-1367-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Веригин - Предатели или жертвы войны: коллаборационизм в Карелии в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. краткое содержание
Книга подготовлена на базе широкого круга источников, основу которого составили архивные документы из фондов государственных и ведомственных архивов России и Финляндии. Многие архивные документы впервые вводятся в научный оборот.
Предатели или жертвы войны: коллаборационизм в Карелии в годы Второй мировой войны 1939-1945 гг. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В советской исторической науке 1950-1970-х гг. обычно использовались следующие определения: «кучка предателей», пособники оккупантов, изменники Родины, антисоветские элементы, власовцы, бендеровцы и др. [6] Литвин А. М. Проблема коллаборационизма и политические репрессии в Белоруссии в 40-50-х rr. // Политический сыск в России: история и современность. СПб., 1997. С. 266–267.
И следует согласиться сутверждением профессора Казанского университета И. А. Гилязова о том, что «если уж проблемы коллаборационизма затрагивались, то ответы на поставленные вопросы давались достаточно простые… малочисленность коллаборационистов, активность коммунистических и прокоммунистических подпольных групп в среде военнопленных, которые насильно были загнаны в военные формирования коллаборационистов, считалось, что главной причиной провала германских планов по привлечению на свою сторону представителей различных народов была верность советских людей своей Родине и коммунистической партии, их высокое чувство патриотизма» [7] Гилязов И. А. Коллаборационизм тюрка-мусульманских народов СССР в годы Второй мировой войны — форма проявления национализма? // АЬ Imperio: теория и история национальностей и национализма в постсоветском пространстве. № 1. Казань, 2000. С. 108.
.
Начавшаяся в середине 1980-х гг. в СССР перестройка сняла идеологические запреты на исследование острых вопросов советской истории, и, тогда открылись многие прежде засекреченные архивные документы, появилась возможность более глубокого изучения проблемы коллаборационизма на оккупированной советской территории в годы Второй мировой войны, стал употребляться и сам термин «коллаборационизм» для обозначения сотрудничества в различных формах с нацистским оккупационным режимом. Среди работ российских исследователей последних лет по данной теме следует выделить труды И. А. Гилязова, А. В. Окорокова, С. И. Дробязко, Б. Н. Ковалева, Н. А. Ломагина [8] Гилязов И. А. На другой стороне: (коллаборационисты из поволжско-приуральских татар в годы Второй мировой войны). Казань, 1998; Окороков А. В. Антисоветские воинские формирования в rоды Второй мировой войны. М., 2000; Дробязко С. И. Восточные войска и Русская Освободительная Армия // Материалы по истории Русского Освободительного Движения 1941–1945 гг. М., 1999. С. 16–105; Ковалев Б. Н. Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941–1944. М., 2004; Ломагин Н. А. Неизвестная блокада. 2-е изд. Кн. 1. СПб., 2002; и др.
.
Важный вклад в изучение проблемы внесло фундаментальное исследование М. И. Семиряги «Коллаборационизм. Природа, типология и проявление в годы Второй мировой войны» [9] Семиряга М. И. Коллаборационизм: природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны. М., 2000.
. Формулируя свое негативное отношение «К практике сотрудничества национальных предателей с гитлеровскими оккупационными властями в ущерб своему народу и родине>>, расценивая действия коллаборационистов «как измену родине в нравственном и в уголовно-правовом смысле этого понятия», автор вместе с тем полагает, что крайне тяжелые условия повседневной жизни оправдывали бытовой коллаборационизм части гражданского населения.
Можно полностью согласиться и с другим тезисом М. И. Семиряги, в котором утверждается, что никакая армия, действующая в качестве оккупантов какой-либо страны, не может обойтись без сотрудничества с властями и населением этой страны. Без такого сотрудничества оккупационная система практически не может быть дееспособной. Она нуждается в переводчиках, специалистах-администраторах, хозяйственниках, знатоках политического строя, местных обычаев и т. д. [10] Там же. С. 5.
Вторая мировая война 1939–1945 rr. на Европейском Севере России включает в себя советско-финляндскую (Зимнюю) войну 1939–1940 rr. и Великую Отечественную войну 1941–1945 rr. (в финляндской историографии военные действия между СССР и Финляндией в 1941–1944 rr. называются войной-продолжением). В период Зимней войны советские власти пытались привлечь на свою сторону как гражданское население оккупированных районов Восточной Финляндии, так и военнопленных финской армии. В свою очередь, в годы Великой Отечественной войны определенная часть советских граждан сотрудничала с финскими и немецкими оккупационными властями на оккупированной территории Советской Карелии.
Изучая тему коллаборационизма на материалах Карелии, следует учитывать особенности его проявления в нашей стране. И прав профессор И. А. Гилязов, когда говорит о том, что советекий коллаборационизм представляется явлением более сложным, многослойным, чем коллаборационизм европейский, что связано, прежде всего, с многонациональным составом населения СССР [11] Гилязов И. А. На другой стороне… С. 121.
. Это утверждение в полной мере относится и к Карелии периода Великой Отечественной войны.
На наш взгляд, можно выделить три основные составляющие коллаборационизма в Карелии в годы Второй мировой войны.
Во-первых, это карелы, финны-ингерманландцы, русские и другие представители наиболее непримиримой части белой эмиграции, бежавшие с территории Советской России в соседнюю Финляндию в 1918–1922 rr. В Финляндии с начала 20-х гг. действовали десятки эмигрантских организаций, в том числе карельских и ингерманландских, и они были достаточно популярны в определенных политических кругах соседнего государства. С конца июня 1941 г. — первых дней оккупации северо-западной части СССР — они оказались наиболее последовательными проводниками финской идеологии и главным инструментарием в проведении финской оккупационной политики на территории оккупированной Советской Карелии.
Во-вторых, это те советские граждане, которые в период войны оказались на оккупированной противником территории Карелии или в Финляндии и, поверив финской пропаганде, сознательно пошли на сотрудничество с оккупационными властями, преследуя различные цели. К декабрю 1941 г. финским войскам удалось оккупировать две трети территории Советской Карелии. Финская военная администрация разделила все оставшееся население по национальному признаку на две основные группы: коренное, или привилегированное, население (карелы, вепсы и другие финно-угорские народы) и некоренное, или непривилегированное, население (русские, украинцы, белорусы и др.)
Местное финно-угорское население рассматривалось в качестве будущих граждан Великой Финляндии. Все средства пропаганды и агитации (печать, радио, школьное обучение, церковь и др.) были направлены на то, чтобы подчеркнуть национальное и естественное единство Финляндии и Карелии, привлечь бывших советских граждан финно-угорской национальности к сотрудничеству с финскими оккупационными властями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: