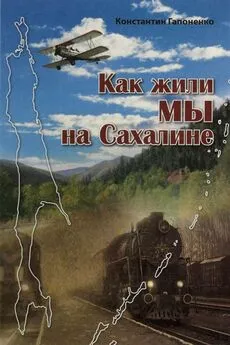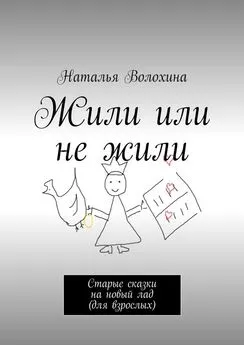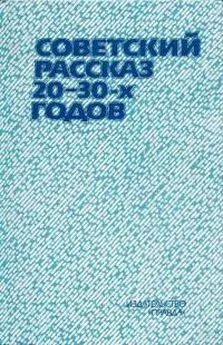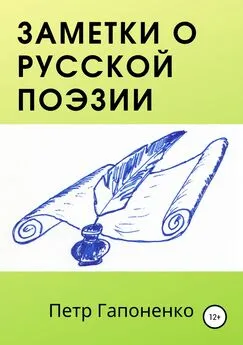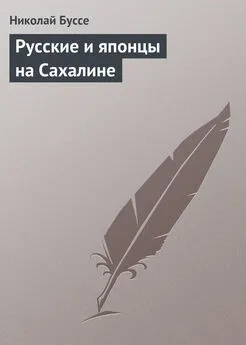Константин Гапоненко - Как жили мы на Сахалине
- Название:Как жили мы на Сахалине
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство Лукоморье
- Год:2010
- Город:Южно-Сахалинск
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Константин Гапоненко - Как жили мы на Сахалине краткое содержание
Как жили мы на Сахалине - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Нам приходилось буксировать одновременно две «сигары» объемом по 2,5–3 тысячи кубометров каждая. Это было нелегким делом, если учесть, что плавание, как правило, проходило в сложных условиях — в штормовую погоду, при плохой видимости.
Буксировка двух «сигар» осуществлялась таким образом. Общая длина буксира — 500 метров. Расстояние между «сигарами», 13 зависимости от состояния моря и дальности буксировки, составляет 100–200 метров. При начинающемся волнении длину буксирного троса увеличиваем, соответственно увеличивается и расстояние между «сигарами». Рабочая шлюпка подготовлена к немедленному спуску. Около нее дежурят матросы, которые по первому сигналу могут выйти к «сигаре».

Способы буксировки изменяются в зависимости от расстояния перехода. Так, на коротких линиях Хоэ — Холмск, Николаевск-на-Амуре — Холмск мы применяли более простой способ. Первая «сигара» крепилась своим буксирным тросом к основному буксиру на зажимах, которые при необходимости легко отдаются. Эта система крепления двух «сигар» на один основной буксирный трос применялась нами при небольших переходах вдоль побережья, где имеются защищенные пункты для осмотра «сигар».
На больших переходах, в открытом море, буксировка «сигар» производится на двух буксирных тросах. Для того, чтобы избежать при поворотах попадания буксира под «сигару», буксирный трос задней «сигары» проходит через переднюю, свободно скрепляясь на носу и корме с верхним лежнем большими скобами. Такое крепление предотвращает рыскание «сигар».
С начала навигации экипаж нашего судна отбуксировал 15 «сигар». Все они были доставлены в полной сохранности. Это достигнуто благодаря самоотверженному труду моряков, их умению действовать быстро и точно в любых условиях.
Однажды мы получили задание осмотреть поврежденную «сигару», чтобы выяснить возможность ее восстановления и буксировки от мыса Лазарева до Холмска. В это время у нас была на буксире одна «сигара». При осмотре выяснилось, что «сигара» сломана пополам, все поперечное крепление и правый бортовой лежень нарушены. Несмотря на сложность ремонта, экипаж решил восстановить «сигару». Следует отметить, что эта «сигара» была первой из доставленных нами сверх годового плана, поэтому экипаж трудился с особым подъемом.
В этом переходе, как и во время всей навигации, хорошо потрудились наши лучшие производственники — боцман товарищ Казаков, старший помощник капитана товарищ Кретов, второй помощник капитана товарищ Шелехов, плотник товарищ У ютов, матросы тт. Антоненко, Щербаков, кочегары тт. Проценко, Рисков, Сердюков, машинист т. Кривда.
В соревновании за достойную встречу XX съезда Коммунистической партии экипаж нашего судна полон решимости добиться новых успехов в труде на благо любимой Родины».
Особенно мне нравится снимок, помещенный в газете. Родные черты тут обретают новый облик, возвышают его. Его было за что любить и такого, каким он был дома и каким был на капитанском мостике.
4 августа 2004 года Нина Меркурьевна Привалова умерла в Екатеринбурге.
Живые звенья
I. Страницы богатой жизни
Благодарен судьбе за то, что свела меня с Алексеем Петровичем Татариновым! Он открыл многослойный пласт неизвестной мне жизни, проявив исключительную душевную щедрость.
Однажды мы встретились в музее трудовой славы Холмского рыбного порта, где Алексей Петрович состоял хранителем. Выйдя на пенсию, он целиком отдался новому делу: стал собирать экспонаты из истории холмских рыбаков, составлял альбомы из своих многочисленных фотографий, оформлял экспозиции.
Допускаю, что знаток фотоискусства найдет в трудах Татаринова несовершенство, но меня согревает святая их простота: вот запечатлен человек, его тело, его дело. А душа каждого из них раскрывается в рассказах Алексея Петровича. Повествование о своих товарищах по работе он начинает каким-нибудь житейским или производственным эпизодом.
С первых минут общения поразило искусство речи моего собеседника. Теперь, когда косноязычие, заикание и эканье государственных и ученых мужей стало приметой времени, я услышал великолепный русский язык — красочный, яркий, точный, даже изящный. Как тут было не вспомнить, что в дореволюционной России предмет, именуемый теперь литературой, преподавали как изящную словесность. В гимназиях ученики пробовали перья в стихах и прозе, издавали рукописные журналы. Однако Алексей Петрович вырос в глухой деревне. Участие в боях и походах Великой Отечественной войны, работа на плавбазах были замечательными университетами, но там речевой культуре первостепенного значения не придавали, фронтовая и рыбацкая лексика приобретала эмоциональную окраску особого свойства. Откуда же такое языковое богатство?
— От покойного родителя. Грамоты у него всего-то и было — три класса церковно-приходской школы. Но в нем горела неуемная страсть к книге, к знаниям. В творениях великих писателей искал он крестьянскую правду-истину, с помощью книг пытался выйти на новые пути жизнеустройства. Видимо, отец был по-своему одаренным человеком, поскольку самоучкой непринужденно впитывал в себя языковую культуру, умел выразить свои мысли не только грамотно, но и красочно. В тридцатых годах, когда развернулось колхозное строительство, в избу к нам приходило великое множество народу. Отец читал вслух, толковал прочитанное. Тогда книги читали по-особому, пристально, даже, пожалуй, придирчиво, каждого литературного героя просвечивали как реальное лицо, осуждая или восхваляя его. Читали Льва Толстого, Горького, Подъячева. Теперь не всякий выпускник вуза, полагающий себя культурным человеком, слышал имя Семена Павловича Подъячева. Это был писатель-мужик, днем он выполнял черную крестьянскую работу, а вечерами писал свои произведения у двадцатикопеечной керосиновой лампы.
Поражал он читателя в самое сердце, и не один мужик, вытирая шапкой слезу, восклицал: «Правильно пишет про нашу жизнь!». Распалялись души, кричали в споре прокуренные голоса. Но все стихали, когда начинал говорить отец. Его речь завораживала слушателей. Мне хотелось быть таким же оратором, как и отец. И я полюбил книгу, из нее черпал языковую культуру в течение всей жизни.
Со временем у Алексея Петровича появилась еще одна страсть — фотография. Много лет, пока позволяло здоровье, он не расставался с фотоаппаратом, снимая рыбацкие праздники и будни, стремясь запечатлеть производственные процессы и часы досуга. Снимков накопилось несчетное количество. Достанет Алексей Петрович любой из них — и засветится его лицо. Запечатлен кочегар, рыбообработчик или механик, или укладчица — для каждого находит он колоритные краски. Если кто-то из них потом спился или опустился, то сообщал он об этом в последнюю очередь, с великим сожалением.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: