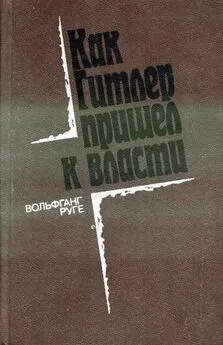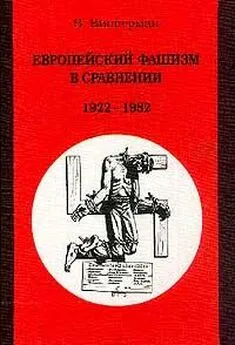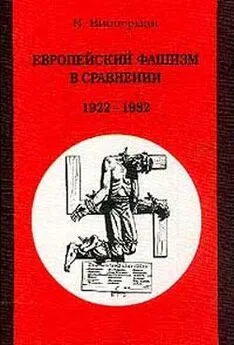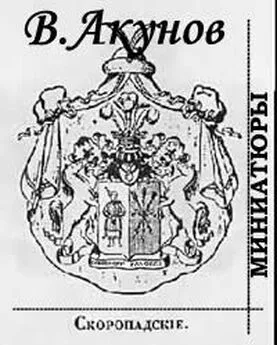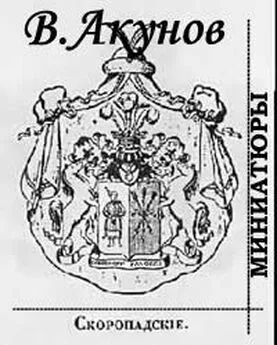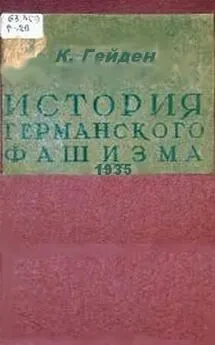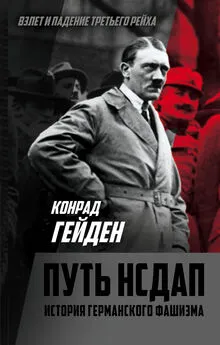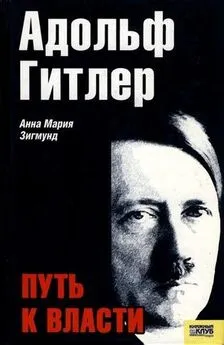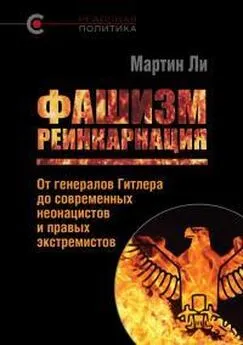Вольфганг Руге - Как Гитлер пришел в власти: Германский фашизм и монополии
- Название:Как Гитлер пришел в власти: Германский фашизм и монополии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1985
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вольфганг Руге - Как Гитлер пришел в власти: Германский фашизм и монополии краткое содержание
Как Гитлер пришел в власти: Германский фашизм и монополии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Свою политику «меньшего зла» СДПГ увенчала тем, что (как заметим мы здесь, несколько опережая события) на президентских выборах весной 1932 г. выступила за переизбрание архимилитариста Гинденбурга, против которого она в 1925 г. мобилизовывала массы и которого теперь превозносила как «человека чистых желаний и ясного суждения, преисполненного кантианского чувства долга» 62. Мол, он-то и гарантирует сохранение конституции, он-то и преградит путь бандиту Гитлеру.
Этим выборам предшествовали неудавшкеся переговоры Брюнинга о продлении парламентом срока пребывания Гинденбурга на президентском посту. В своих мемуарах Брюнинг цинично пишет: в один и тот же день утром он предложил Гитлеру за его согласие на продление срока президентства Гинденбурга скорое участие в «руководстве политикой», а вечером принял «господ из СДПГ». Им он заявил, что «не может взять на себя никакой гарантии насчет того, как будет развиваться тогда (после начала второго срока президентства Гинденбурга) внутренняя политика». Однако по их реакции на свое заявление канцлер понял, что, «несмотря на сильные опасения», они «в случае необходимости пошли бы на риск использования своей партии» 63. Надо помнить, что эта проистекавшая из антикоммунистического ослепления готовность правых социал-демократических лидеров пойти на риск означала решение ради политики под «руководством Гитлера» пойти против германского рабочего класса, поставить на карту жизнь тысяч и тысяч антифашистов, в том числе и многих социал-демократов. Поэтому трудно представить себе более точную и вместе с тем более уничтожающую характеристику политики «меньшего зла».
Полнейшая абсурдность этой политики СДПГ, якобы направленной на отражение фашистской опасности (т. е. на то, чтобы сделать ее поменьше), видна из того, что на практике она мирилась со все большим «меньшим злом». Сначала это был «только» содействовавший фашизму Брюнинг, с которым примирились; затем Гипденбург, который вскоре, как это можно было заранее предвидеть, оказался человеком, назначившим Гитлера на пост рейхсканцлера, и, наконец, 30 января 1933 г. даже… сам Гитлер! Ибо в этот роковой день альтернатива, выдвинутая руководством социал-демократии, гласила: пришедший к власти «конституционным путем» Гитлер — это «меньшее зло» по сравнению с тем Гитлером, который, будучи рассержен всеобщей забастовкой и сопротивлением, применил бы неприкрытое насилие.
В своем противодействии созданию единого рабочего фронта правые социал-демократические лидеры дошли до прямо-таки преступного утверждения, будто отпор фашизму должен осуществляться путем борьбы против коммунизма. Признанный теоретик II Интернационала Карл Каутский, докатившийся до позорной роли герольда оппортунизма, не остановился в 1931 г. перед заявлением, будто разгром Советской власти в России послужит «предпосылкой разгрома фашизма в Европе» 64.
Оголтелый антикоммунизм, выразителем которого стал смещенный Шахтом бывший министр финансов Гиль-фердинг (член Правления СДПГ), решительное отмежевание социал-демократического руководства от коммунизма, его парламентская тактика фактического сотрудничества с заправилами президиального режима (которая к тому же давала нацистам, имевшим большинство в парламенте, возможность выдавать себя за последовательных противников выступавшего со все новыми и новыми чрезвычайными распоряжениями президиального канцлера), а также категорическое отклонение СДПГ внепарламентской борьбы против фашизма — все это делало явным тот факт, что тогдашние антисоциалдемократические тенденции среди коммунистов были (вопреки утверждениям буржуазной историографии) не причиной последующей ошибочной линии социал-демократии, а, совсем наоборот, реакцией на ее предательскую политику.
Социал-демократическая политика «меньшего зла» оказалась столь роковой и потому, что она мешала явно усиливавшимся в КПГ стремлениям преодолеть имевшиеся среди коммунистов неправильные оценки социал-демократии в целом. Тем самым она углубляла ров между коммунистами и социал-демократами, который перед лицом грозной фашистской опасности надо было как можно скорее сообща засыпать.
К числу таких неправильных оценок в первую очередь относился тезис о «социал-фашизме», выражавший ожесточение революционных рабочих против политики правых социал-демократических лидеров, которая объективно служила империалистическим интересам. В возникновении этого тезиса сыграло свою роль все еще жившее в памяти немецких коммунистов возмущение открытой изменой социал-демократических лидеров принципам международного рабочего движения, когда фракция СДГТГ 4 августа 1914 г. проголосовала за военные кредиты кайзеровскому правительству, сотрудничеством «социал-демократов большинства» с контрреволюционной военщиной в период Ноябрьской революции 1918–1919 гг. и другими действиями правых социал-демократических лидеров на пользу классовых врагов пролетариата. Это возмущение получило новый импульс, когда в 20-х годах социал-демократические политики, занимавшие почти все высшие посты в Германии и Пруссии, использовали свою власть лишь для действий, направленных против революционного движения. Достаточно напомнить убийство 31 берлинского рабочего во время первомайской демонстрации 1929 г. руководимой социал-демократами полицией, запрещение Союза красных фронтовиков.
С гневом и отвращением воспринимали коммунисты становившееся с каждым днем все более очевидным благоволение многих социал-демократических чиновников злейшим врагам республики — гитлеровским фашистам, защиту государственными функционерами — социал-демократами банд нацистских погромщиков, введенные социал-демократическими полицей-президентами и направленные против революционных организаций запреты демонстраций, а также приказы стрелять в рабочих.
В этой ситуации, когда социал-демократическая пресса и пропаганда в своем антикоммунистическом рвении стремились даже превзойти старые буржуазные партии, и возник тезис о «социал-фашизме». Он был призван не в последнюю очередь эмоционально воздействовать на рабочих социал-демократов, чтобы помочь им осознать коренные вопросы классовой борьбы. Однако на деле он усилил недоверие этих рабочих к коммунистам и затруднил установление контактов между членами и функционерами обеих рабочих партий.
Но при всей необходимой и не допускающей никакого преуменьшения критике этого тезиса следует подчеркнуть: он был порожден стремлением высвободить трудящихся социал-демократов из тисков объективно содействовавшей фашизму политики, т. е. возник как оружие в борьбе против фашизма. Хотя пропаганда КПГ с самого начала и в последующем была направлена в основном против правых социал-демократических лидеров, срывавших установление единства действий рабочего класса, содержание этой пропаганды, а тем самым и ее конкретные функции явно изменились.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: