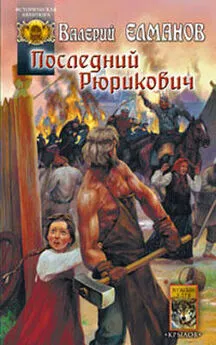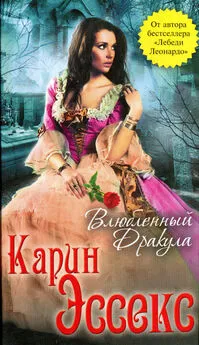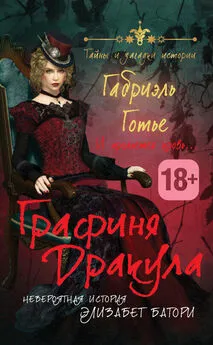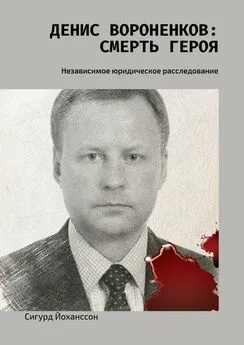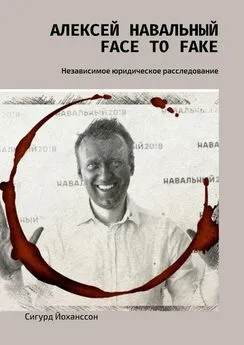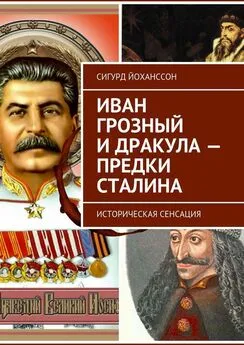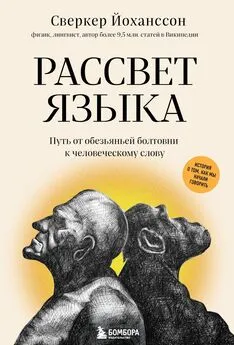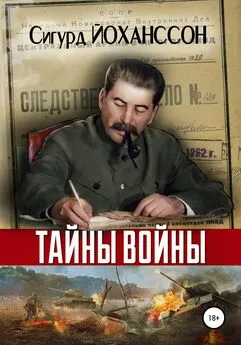Сигурд Йоханссон - Иосиф Рюрикович-Дракула [Рассекреченная родословная генералиссимуса]
- Название:Иосиф Рюрикович-Дракула [Рассекреченная родословная генералиссимуса]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ridero
- Год:2017
- Город:Екатеринбург
- ISBN:978-5-4483-8568-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сигурд Йоханссон - Иосиф Рюрикович-Дракула [Рассекреченная родословная генералиссимуса] краткое содержание
Иосиф Рюрикович-Дракула [Рассекреченная родословная генералиссимуса] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Переписка Ивана Грозного и Василия Грязного относится к 1574–1576 гг. В прошлом Василий Грязной — ближайший царский опричник, верный его слуга. В 1573 г. он был направлен на южные границы России — в заслон против крымцев. Грязной должен был отправиться в глубь степи с отрядом в несколько сот человек и добыть языков. Но крымцы «подстерегли» отряд Грязного и настигли его. Поваленный наземь Грязной отчаянно сопротивлялся, до смерти перекусав «над собою» шесть человек и двадцать два ранив, о чем не только писал впоследствии Василий Грязной Грозному, но что подтверждали и очевидцы. Грязного «чють жива» отвезли в Крым к хану, и здесь, «лежа» перед ним, юн вынужден был признаться, что он у Грозного человек «Беременный» — его любимец. Узнав об этом, крымцы решили выменять его на Дивея-Мурзу — знатного крымского воеводу, захваченного в плен русскими. Из плена Василий Грязной и написал Грозному свое первое письмо, прося обмена на Дивея. Осенью 1574 г. Василий получил ответ Грозного через гонца Ивана Мясоедова.
С этим гонцом Грозный передал Грязному свое государево жалование и сообщил ему, чтобы он не беспокоился о семье: сына его Грозный пожаловал поместьем и деньгами. Но самое письмо Грозного содержало решительный отказ выкупить его за большие деньги или обменять на Дивея-Мурзу. После этого Василий Грязной еще дважды писал царю, но крымцы не получили за Грязного Дивея-Мурзу. В 1577 г. Грязной был выкуплен за умеренную сумму, но что сталось с ним после выкупа, не известно.
Другой его респондент — бежавший в Литву князь Курбский. Между царем и изменником не могло быть той непосредственности, какая была в письмах Грозного к своему любимцу Василию Грязному или в письмах к кирилло-белозерским монахам. Грозный выступает здесь с изложением своих взглядов как государственный человек. Не случайно переписка Грозного с Курбским обращалась среди московских людей в качестве материала для чтения.
Грозный стремится дать понять Курбскому, что ему пишет сам царь — самодержец всея Руси. Свое письмо он начинает пышно, торжественно. Он пространно говорит о своих предках (недаром потом и Сталин будет его вспоминать как предка, очень достойно, о чем мы уже говорили). Курбский верно почувствовал тон письма Грозного, назвав его в своем ответе «широковещательным и многошумящим». Но и здесь, в конце концов, дает себя знать темпераментная натура Грозного. Постепенно, по мере того как он переходит к возражениям, тон письма его становится оживленнее. «А жаловали есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же есмя!». Бояре, такие, как Курбский, похитили у него в юности власть: «от юности моея благочестие, бесом подобно, поколебасте, еже от бога державу, данную ни от прародителей наших, под свою власть отторгосте». Грозный резко возражает против мнения Курбского о необходимости ему иметь мудрых советников из бояр. В полемическом задоре Грозный называет бояр своими рабами. Повторяющиеся вопросы усиливают энергию возражений. «Ино се ли совесть прокаженна, яко свое царство во своей руне держали, а работным своим владели не давали? И се ли сопротпвен разумом, еже не хотели были работными своими обладанному и овладенному? И се ли православие пресветлое, еже рабы обладанну и повелениу были?». «А Российское самодерьжьство изначяла сами владеют своими государьствы, а не боляре и не вельможи». «Царь — гроза не для добрых, а для злых дел; хочешь не бояться власти — делай добро, а делаешь зло, бойся, ибо царь не в туне носит меч — в месть злодеям…».
Постепенно тон письма становится запальчивым. Он с азартом издевается и высмеивает Курбского, отпускает такие насмешки, которые уже лишены всякой официальности. Так, например, в первом письме к Грозному, «слезами омоченном» Курбский перечислял все обиды и преследования. В обличительном порыве Курбский в конце концов обещает положить свое письмо с собою в гроб и явиться с ним на Страшном судище, а до того не показывать Грозному своего лица. Грозный подхватил и вышутил это самое патетическое место письма Курбского: «Лице же свое, пишешь, не явити нам до дне Страшнаго суда божия? — Кто же убо восхощет таковаго ефиопскаго лица видети!».
Грозный мог быть торжественным только через силу. Он был чужд позы, охотно отказывался от условности, от обрядности. В этом отношении он был по-настоящему русский человек. Грозный, на время вынужденный к торжественности тона, в конце концов переходит к полной естественности. Можно подозревать Грозного иногда в лукавстве мысли, иногда в подгонке фактов, но самый тон его писем всегда искренен. Начав со стилистически сложных оборотов, с витийственно-цветистой речи, Грозный рано или поздно переходил в свой тон, становился самим собой: смеялся и глумился над своим противником, шутил с друзьями или горько сетовал на свою судьбу.
Это был поразительно талантливый человек. Казалось, ничто не затрудняло его в письме. Речь его текла совершенно свободно. И при этом какое разнообразие лексики, какое резкое смешение стилей, какое нежелание считаться с какими бы то ни было литературными условностями своего времени!..
Из двух посланий Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь первое послание наиболее обширно и значительно. Оно написано по следующему случаю. Несколько опальных бояр, в том числе Шереметев и Хабаров, забыв свои монашеские обеты, устроились в монастыре, как «в миру», и перестали выполнять монастырский устав. Слухи и сообщения об этом доходили и до Грозного, составившего в связи с этим свое обширное послание в Кирилло-Белозерский монастырь игумену Козьме «с братией».
Оно начинается униженно, просительно. Грозный подражает тону монашеских посланий, утрирует монашеское самоуничижение: «Увы мне грешному! горе мне окаянному! ох мне скверному! Кто есмь аз на таковую высоту дерзати (т. е. на высоту благочестия Кирилло-Белозерского монастыря)? Бога ради, господне и отцы, молю вас, престаньте от таковаго начинания… А мне, псу смердящему, кому учити и чему наказати и чем просветити?». Грозный как бы преображается в монаха, ощущает себя чернецом: «и мне мнится, окаянному, яко исполу (т. е. на половину) есмь чернец». И вот, став в положение монаха, Грозный начинает поучать. Он поучает пространно, выказывая изумительную эрудицию и богатство памяти. Постепенно нарастают и его природная властность и его скрытое раздражение. Он входит в азарт полемики.
Письмо Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь — это развернутая импровизация, импровизация в начале ученая, насыщенная цитатами, ссылками, примерами, а затем переходящая в запальчивую обвинительную речь — без строгого плана, иногда противоречивую в аргументации, но неизменно искреннюю по настроению и написанную с горячей убежденностью в своей правоте.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Сигурд Йоханссон - Иосиф Рюрикович-Дракула [Рассекреченная родословная генералиссимуса]](/books/1096912/sigurd-johansson-iosif-ryurikovich.webp)