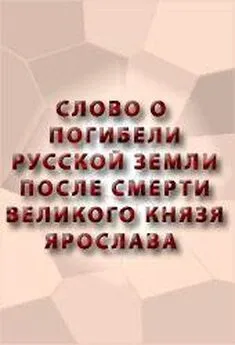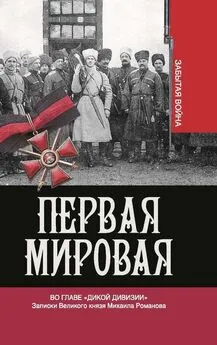Владимир Антонович - Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда
- Название:Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:1878
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Антонович - Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда краткое содержание
Очерк истории Великого княжества Литовского до смерти великого князя Ольгерда - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Длугош, описывающий более подробно этот поход, прибавляет: «Уже вожди и войско польское проникли внутрь страны, жестоко истребляя народонаселение: взрослых и отроков, и предавая пламени многочисленные хутора и села» (villas et vicos). B описании похода польского герцога Казимира Справедливого на ятвягов (1192) Кадлубек говорит следующее об области, занятой этим литовским племенем: «Поллексияне (ятваги) — одно из племен гетов или пруссов, народ жестокий и более свирепый чем дикие звери; страна их недоступна по причине обширных пущ, непроходимых лесных дебрей и вязких болот». Поляки, ворвавшись в страну эту, «предавали пламени: храмы, мызы, села, возвышавшиеся здания и житницы, наполненные хлебом. Городов же у них нет; они, подобно диким зверям, незнакомы с городскими стенами».
На ту же черту в быту литовцев указывают и западные источники. Составитель жития св. Войтеха, передавая историю его миссионерского странствования в Пруссию, упоминает только сельские поселения (villa, pagus, vicus). Петр Дюсбург, составивший весьма подробное описание покорения Пруссии крестоносцами, ни разу не упоминает о городах в этой стране и говорит только по временам о существовании засек или укрепленных лагерей (castra et firma); конечно, на такие же боевые временные укрепления у ятвягов указывает и Ипатьевская летопись под 1194 годом, обозначая их именем «тверди».
Если обратимся к истории основания литовских городов, существовавших, впоследствии, то заметим, что не только точные сведения, но и народные предания о их основании относят время их возникновения не раньше половины XIII столетия. Так, первые города в Пруссии построены были крестоносцами после завоевания ими этой страны. В земле Жемгалы упоминается город Тервета, укрепленный туземцами, уже в исходе их борьбы с Ливонским орденом, в конце XIII столетия. В земле ятвягов единственные существовавшие города были основаны волынскими князьями по мере покорения ими этой страны. На границе собственной Литвы города также возводились русскими князьями, как Гродно, упоминаемое в летописи уже под 1128 годом, и Новогродок-Литовский, основание которого приписывалось в. к. Ярославу. Что же касается собственно литовских городов, то, если устраним совершенно произвольную хронологию, придуманную для баснословной литовской истории Стрыйковским, мы найдем сколько-нибудь точные указания и предания об основании литовских городов не раньше половины XIII столетия. Так, под 1252 г. летопись упоминает в Литве город Воруту и в Жмуди — Твиреметь; упоминание о Кернове встречаем около 1250 г., об Эйраголе в 1262, о Гольшанах в 1280, Ковне около 1280, о Тельшах, Вильне, Троках, Лиде только около 1320 и т. д.
Наряду с отсутствием в Литве городов, как объединяющих земских центров, мы находим полное отсутствие и монархической власти, которая бы успела подчинить своему авторитету сколько-нибудь значительные части литовского племени. Относительно этого факта мы встречаем такое же согласие в указаниях всех источников, как и относительно отсутствия городов на литовской территории. Русские, польские и немецкие летописи, описывая военные столкновения литовских племен с соседями до половины XIII столетия, всегда указывают только имя народа или племени литовского, с которым происходило данное столкновение, но при этом не только не называют имен литовских вождей, но даже не упоминают о существовании каких бы то ни было правителей.
Только с половины XIII столетия, когда сведения о литовском племени становятся более подробными и обстоятельными в летописных источниках, мы встречаем в них упоминание о литовских вождях, но по самому характеру этих сведений мы убеждаемся в отсутствии государственной власти на сколько-нибудь обширной территории у литовских племен. Эти первые сведения о вождях литовских указывают на то обстоятельство, что до второй половины XIII столетия власть известных летописцам начальников простиралась только на незначительные сельские округи, на отдельные волости; вожди эти были скорее волостные старшины, правдоподобно представители отдельных родов или кланов [3] Мы не имеем ясных указаний на то, что упоминаемые в источниках вожди были представителями родового начала; некоторые, намеки только в этом отношении встречаем в Ипатьевской летописи: здесь, в перечне литовских князей под 1215, г. упоминаются 2 рода: Рушковичи и Булевичи; в описании же похода на ятвягов 1256 года — три рода: злинцы, покинцы и крисменцы.
, чем монархические правители в государственном смысле слова. Отличительные признаки этих первых известий о литовских вождях состоят в следующем: упоминания о них всегда указывают зараз целую группу этих начальников на незначительном пространстве территории. В тех случаях, где район их власти может быть определен по свидетельству источника, оказывается, что он обнимал пределы небольшой волости или, может быть, рода, носившей, как кажется, свое отдельное, специальное название.
Волости эти не только не были связаны между собой никакой общей государственной властью, но и, весьма часто, не сознавали общих политических интересов по отношению к иноплеменникам; каждая волость и каждый вождь действовали на свою руку, независимо, иногда в союзе друг с другом, иногда врозь и даже во вред друг другу.
Черты эти яснее всего выступают в сказаниях Ипатьевской летописи о борьбе галицко-волынских князей с ятвягами. Так, под 1248 годом, рассказывая о победе, одержанной Васильком Романовичем над ятвягами у Дрогичина, летописец говорит, что в битве «убито бысть князий ятвяжских сорок». Далее, описывая под 1256 годом большой поход на ятвягов Данила Романовича в союзе со многими русскими и польскими князьями, летописец передает следующие интересные подробности. Проводником Даниловой рати служил ятвяг Анкад, принявший на себя эту обязанность под условием, что его село будет пощажено. Русские полки напали на три волости или клана, носившие отдельные названия — злинцы, крисменцы и покинцы — и разорили их поселения. Они брали порознь ятвяжские села: Олдыкище, Привище, Корковичи и другие, причем соседние ятвяжские волости не являлись для подмоги пострадавшим. В Привищах был свой князь, который погиб в защите родного села. На другой день русские сожгли дом другого князя Стекинта, и, затем, явился в русский стан для переговоров третий ятвяжский князь Юндил.
Подобное же общественное устройство существовало в Пруссии. Еще в начале XII в., в сказании Виперта о смерти св. Брунона мы встречаем свидетельство о том, что пруссы жили под властью мелких волостных родоначальников; так, по словам сказания, св. Брунон успел убедить одного прусского царя, Нетимера, принять крещение вместе с его народом, состоявшим из 300 мужей, но, вслед за тем, владетель соседнего округа напал на владения Нетимера и предал казни миссионеров. В подробном рассказе Петра Дюсбурга о завоевании Пруссии крестоносцами весьма часто упоминаются имена туземных вождей, но из самого же рассказа видно, что власть их простиралась на весьма незначительные округи; несколько таких вождей упоминается обыкновенно в одно и то же время в различных местностях и каждый из них действует самостоятельно, не подчиняясь другому. Желая упрочить свое завоевание и подчинить своему господству прусское население посредством гражданских связей, крестоносцы признали дворянские права и оставили некоторую долю поземельных владений тем туземным владельцам, которые добровольно признали над собой власть ордена и приняли крещение. Что льготы эти относились не к более знатным и благородным лицам прусского происхождения, но к самостоятельным владельцам мелких независимых кланов, на то мы имеем указание в привилегии, данной магистром ордена крестоносцев городу Бартенштейну в 1332 году. Привилегия эта, определяя границы судебной власти магистрата, предоставляет ему право суда в стенах города и над пруссаками, которые различаются так: «Pruteni, sub regibus Prutenicalibus residentes et alii Pruteni advenae». Немецкие источники, упоминая о мелких литовских начальниках, не знают, какой титул западной феодальной иерархии следует применить к ним, и потому называют их безразлично именами: rex, regulus, dux, nobilis, magistratus, castellanus, capitaneus и т. д.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: