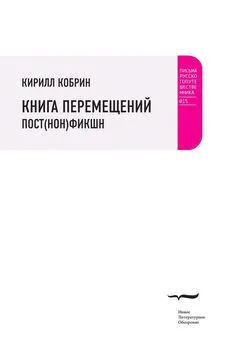Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]
- Название:Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр гуманитарных инициатив
- Год:2016
- Город:Москва - Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-644-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии] краткое содержание
Книга адресована историкам, философам, филологам и культурологам, а также всем гем, кого интересует медиевистика и интеллектуальная история XX века.
Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Главный сюжет третьей главы книги — рассуждение о сакральном статусе средневекового короля как основе для формирования его «политического тела». Здесь Канторович делает хронологический прыжок из раннего Нового времени назад к анонимному нормандскому трактату примерно 1100 г. Данное сочинение почти целиком посвящено именно двойственной природе короля — природной и благодатной (цитата из документа приведена в «Двух телах короля»): «Власть царя есть власть Бога. Ведь она — Бога — по природе, а царя — по благодати. Следовательно, и царь тоже есть Бог и Христос, но по благодати; и что бы он ни делал, он делает это не только как человек, но как тот, кто стал Богом и Христом по благодати» (С. 120). Исключительно интересный пассаж, особенно, в его собственном историко-культурном контексте. Власть от Бога — «по природе», т. к. Бог создал все, в том числе и власть. Т. е. власть есть часть природы, по сути, часть порядка вещей. В то же время, власть царя «по благодати» — это вещь как бы обходящая порядок вещей, точно так же как Христос вмешался в порядок вещей своим рождением, проповедью, смертью и воскрешением, он обошел порядок вещей, установленный Творцом. Получается, что у нормандского анонима царь есть как бы Христос, берущий на себя ответственность за грехи порядка вещей, оттого и происходит его благодать. Канторович (мимоходом) отмечает связь с обожествлением правителей в Античности, эллинистических государствах и Риме. Отчасти, как представляется, эта связь действительно существует; к тому же источник тут один — ведь обожествление Александра Македонского началось под восточным, ближневосточным и египетским влиянием. Но есть, конечно, и огромное отличие христианской традиции. Оно заключается вот в этом моральном содержании «благодати»: благодать дается не для «величия», а именно для «огибания» порядка вещей, преследуя цель Спасения. А ограниченность царя, его отличие от священника, заключается в том, что он спасает ограниченный контингент людей, только своих подданных.
Вот здесь и можно нащупать некоторую теологическую, концептуальную, но вовсе не историческую связь между идеями нормандского трактата 1100 г. и концепцией «двух тел короля», возникшей пятьсот лет спустя. Сам же Канторович резюмирует так: «Король есть двойное существо — человеческое и божественное, точно так же как и Богочеловек, хотя король двухприроден и удвоен только по благодати и во времени, а не по природе и (после Вознесения) в Вечности: земной король не является удвоенным существом, а становится им в результате своего помазания и посвящения» (С. 121). Иными словами, Канторович берет только формальную схему уподобления правителя Христу — двуприродность, трактуемую исключительно диахронически («благодать», последовательно передающаяся от Бога), отказываясь видеть в его фигуре совмещение диахронического с синхроническим. Синхроническое же здесь выглядит так: Христос существует как бы параллельно, синхронно Богу-Отцу, возможность «огибания» ветхозаветного порядка вещей уже заложена в Его фигуре и в самом порядке вещей с самого начала. Идея власти, будучи частью божественного порядка вещей, содержит в себе возможность персонификации в лице одного человека, который лично берет на себя ответственность за многих, «огибая», опять-таки, порядок вещей, стягивая его на себя и обходя — ибо власть не только от Бога-Творца, но и от Христа-Спасителя. Замечание же о «временности» двухприродности короля, на самом деле, относится и к Христу — Он же «открывает», «начинает» время, родившись и воскреснув. Историческое время начинается с Христа точно так же как историческое время правления того или иного короля начинается с его помазания на престол. По сути, перед нами два случая перехода от времени мифа (природного, вечного, ветхозаветного) к времени истории (Рождества, Воскресения, помазания, времени Нового Завета). Вот это и есть самое интересное здесь: ведь короли становятся «христианнейшими» только с момента помазания, с какой-то точки, и дальше история их правления вполне может соотноситься с жизнью Христа. В то же время, здесь заложена довольно тонкая диалектика: начав персональную историю, будучи помазан и получив благодать, царь в то же время становится частью вечной власти Бога в профанном времени своих подданных, своего рода капсулой, внутри которой запаяна вечность. Здесь он не только подобен Христу, который есть та же человеческая капсула, в которую запаян Бог, он подобен человеку вообще, который носит в теле частичку бессмертной души. Если вообще стоит искать истоки концепции «двух тел короля», я бы обратил внимание именно на это обстоятельство — точка единства мистических (что, в данном случае, значит политических) тел короля и подданного именно здесь. Но в таком случае предмет исследования Канторовича окончательно растворяется. С одной стороны, если речь идет просто о двуприродности человека и его институций (в том числе власти), то идея двух тел короля становится невыносимо банальной, ибо и так все понятно, кроме нескольких деталей. С другой стороны, бесконечное деление каждого из тел (короля и подданного; о последнем, заметим, у элитиста Канторовича написано мало, а жаль) приводит к полному их исчезновению. Последнее не значит, что тема многоприродности власти в Средние века неважна, неинтересна или даже абсурдна. Отнюдь. Просто в таком случае сама дуалистическая метафора представляется крайне непродуктивной для разговора на эту тему. Впрочем, все вышесказанное имеет смысл, если речь идет об обычном историческом исследовании. Как мы видим, «Два тела короля» — труд несколько иного рода.
Тема эта продолжается в четвертой главе «Двух тел короля». Согласно Канторовичу, к пику Высокого Средневековья образ короля-двуприродного аналога Христа, «короля-викария Христа» превращается в образ короля-помазанника Божьего и «викария Бога» (Бога Отца, а не Христа). Тут возможно немало интерпретаций, однако самая очевидная (хотя и небесспорная) такова: подобие Христа стремится превратиться в своего рода самого Христа; отношения короля с Богом становятся параллельными отношениям Христа с Богом Отцом. Сам Христос в дальнейших теоретических и теологических выкладках уже не упоминается, т. к. данное звено становится теперь избыточным: «Однако даже чисто потенциальная связь короля с двумя природами Христа стала исчезать, когда титулы “rex imago Christi” (“король образ Христа”) и “rex vicarius Christi” (“король викарий Христа”), обычные в Высоком Средневековье, начали выходить из употребления, уступая место формулам “rex imago Dei” (“король образ Бога”) и “rex vicarius Dei” (“король викарий Бога”). Конечно, представление о государе как подобии Бога или исполнителе его воли опиралось как на древний культ правителя, так и на Библию» (С. 166). Через две страницы Канторович совершенно справедливо указывает на одну из причин этого (и здесь нечастый случай, когда он, действительно, прочно стоит на позициях историзма): борьба за инвеституру постепенно лишила королей духовного, мистического авторитета как «викариев Христа», все больше превращая их в «императоров», т. е. представителей Бога, помазанных Им для правления народом. В свою очередь название «викарий Христа» в результате этой борьбы переходит к папам (а иногда даже и просто к священникам). В подтверждение своих суждений Канторович приводит в примечании очень важное свидетельство (см. прим. 12. С. 168): «… цитата из Амброзиастера (…), где говорится, что человек вообще имеет “власть от Бога и является его викарием” (“imperium Dei quasi vicarius eius”), но в “Декрете” опущены следующие за этим слова “quia omnis rex Dei habet imaginem <���поскольку любой король несет в себе образ Бога>” Эти места характеризуют учение Амброзиастера, согласно которому король является викарием Бога Отца, а священник — викарием Христа». Дальше этот процесс доходит до логического предела (С. 169) и происходит окончательное размежевание в способах сакрализации папской и императорской власти: папа есть викарий Христа, император (правитель, монарх, король) — наместник Бога в мире. «Христоцентричный образ» правителя исчезает, отмечает Канторович, из-за чего, казалось бы, должна отойти тема соотношения ранненововременной концепции «двух тел короля» и раннесредневековой концепции уподобления короля Христу. Но не все так просто. Как уже было отмечено выше, в Высоком Средневековье король есть наместник Бога на земле, но в то же самое время он как бы и Христос в собственном человеческом теле (С. 250). А в раннесредневековое время, как мы уже отмечали, король — наместник Христа на земле, а не триединого Бога и не Бога Отца. Христос как бы исчезает из дискурса о короле и природе его власти, но в то же самое время он все время присутствует, воплотившись в самого государя. Христос есть фигура умолчания, в отличие от ситуации с иерархами Католической церкви, которые называются теперь Его наместниками. С другой стороны, как уже отмечалось, король — Христос в его человеческой ипостаси, подчиненный римскому закону и императору; точно так же король подчиняется закону, которого он, в то же самое время, выше; «Другими словами, король вместе со своими судьями представлял собой Бога Отца, восседающего вместе с божественным Христом на троне небесном. Но король есть одновременно и образ Христа-человека — всякий раз, когда он является не судьей, а тем, кто подчиняется закону. В одно и то же время он подобен Богу и стоит выше закона (когда судит, издает законы и толкует их) и подобен Сыну или любому рядовому человеку, стоящему ниже закона, поскольку он тоже подчиняется ему» (С. 252). Получается так: двуединость Христа все равно остается главным свойством короля при переходе от Раннего к Позднему Средневековью. Только теперь эта двуединость как бы задана самим фактом существования королевской власти в качестве наместничества Бога, плюс к чему, она несколько ограничена функцией христоподобия: как Христос во время своей земной жизни был своего рода представителем Бога на земле, так и король является таковым же. В этом — и только этом — смысле король обладает мистическим телом. И здесь у Канторовича можно обнаружить противоречие. Он считает, что в Позднее Средневековье произошло смещение сакрального понимания королевской власти — от «богочеловеческой сущности», т. е. от христоцентричной к божественной вообще: «позднесредневековые теории королевской власти “по божественному праву” следовали образцу Отца на Небесах, а не Сына на Алтаре и сосредоточивались скорее на философии права, нежели на еще античной физиологии двухприродного Медиатора» (С. 171). На первый взгляд, все верно; более того, можно даже добавить, что постепенно теория королевской власти приобретает дохристианский характер, смесь ветхозаветного (Бог Отец в центре) и римского (традиция Римской империи и так далее). Но повторим: не напоминают ли (в каком-то смысле) отношения между королем и Триединым Богом отношения Христа с Богом-Отцом?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]](/books/1097243/kirill-kobrin-srednie-veka-ocherki-o-granicah-ide.webp)