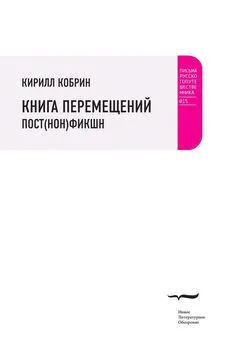Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]
- Название:Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр гуманитарных инициатив
- Год:2016
- Город:Москва - Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-644-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии] краткое содержание
Книга адресована историкам, философам, филологам и культурологам, а также всем гем, кого интересует медиевистика и интеллектуальная история XX века.
Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Канторович не отвечает на этот вопрос; здесь он бросает «чистую теологию», после чего неспешно и величественно перемещает предмет разговора в юридическую плоскость. В книге возникает давно ожидаемый персонаж — Фридрих II: «Помимо указания на вдохновение с небес, Фридрих II, как и любой другой средневековый правитель, утверждал, что он является наместником Бога. В самом важном месте — большом прологе к его “Liber augustalis” — император заявлял, что после грехопадения природная Необходимость, так же как и божественное Провидение, создали царей и князей и что им была поставлена задача “быть властителями жизни и смерти для своих народов, устанавливать, какими должны быть состояние, удел и положение каждого человека, являясь как бы вершителями божественного Провидения”» (С. 197). Получается, что источником богоподобной власти монарха является еще и необходимость создания и поддержания порядка в ситуации, возникшей после Грехопадения. Власть, таким образом, носит как бы вынужденный характер — должен же кто-то взять на себя заботу о потомках Адама и Евы и внести в их жизнь возможность следованию Правосудию и Справедливости! Символически принося себя в жертву этой обязанности, короли оказываются еще на одном пути христоподобия. Только сейчас жертва прочитывается уже не теологически, а юридически. Более того, говорит дальше Канторович, само отправление правосудия все более принимает характер религиозной службы, мессы, а юристы и знатоки права претендуют на тот же статус, что и священники. Они и считают себя своего рода священниками, отправляющими культ Божественного Правосудия и Справедливости. «Юридическое наступление» на теологию и область священного знания происходит в легальных документах; Канторович отмечает: «Другими словами, светский авторитет сводов римского права представлялся юристам (именно как юристам) более ценным, важным и убедительным свидетельством, нежели священные книги, так что даже прямые цитаты из Библии приводились преимущественно кружным путем, а именно при посредничестве цитат из томов римского права» (С. 198). Применительно к роли короля это выглядит как процесс окончательного превращения христоподобного короля в агента, жертву и жреца Правосудия в одном лице: «По аналогии, государь уже не был christomimetes — проявлением Христа, вечного Царя; но он пока еще не был и представителем бессмертной нации; свою долю в бессмертии он получал в качестве ипостаси бессмертной идеи. Новая модель persona mixta (смешанного лица) родилась из самого права как такового, где Iustitia стала образцовым божеством, а государь превратился одновременно и в воплощение этого божества, и в его Pontifex maximus (верховного жреца)» (С. 231). Но при всех изменениях, функционально статус короля тот же — ведь и Христос есть и жертва, и жрец, приносящий жертву; Он своего рода агент Бога Отца — и самого себя тоже. Чуть позже, уже в главе, посвященной английскому юристу XIII в. Брактону, Канторович показывает, как в разных легалистских конструкциях конкретно меняется наполнение данной схемы; например, Закон заменяет Бога, оставляя неизменной роль короля: «в тексте Брактона вновь появляются хорошо известные отношения между королем и Законом: король, сын Закона, становится его отцом. Это тот самый вид взаимодействия и взаимозависимости закона и короля, который можно обнаружить практически во всех политико-правовых теориях того периода» (С. 244). Иными словами, одна и та же двуприродность имеет разные импликации.
Но вернемся в исторический контекст раннего Нового времени, в котором разворачивается действие первой и отчасти второй главы книги Канторовича. Политическое тело короля и политическое тело королевства, как получается у Канторовича, вещи разные. Политическое тело короля составляет с подданными «мистическое тело», которое частично и образует политическое тело королевства. «Король в парламенте», по Канторовичу, есть глава политического тела королевства. Отношения монарха и подданных, таким образом, если даже оставить все малопостижимые логические дроби, строятся с помощью нескольких параллельных путей. Непосредственный путь — мистический; король и подданные — одно тело, которое, впрочем, то ли часть политического тела короля, то ли тела королевства. Опосредованный путь — через парламент, где король находится в качестве функции своего политического тела (и тела королевства тоже). Там между монархом и подданными располагаются члены обеих Палат. Любопытно, что чисто исторически Канторович, хотя ему такого рода рассуждения не очень свойственны, ибо довольно традиционны с точки зрения историографии, трактует подобную ситуацию как двойственность, характерную для феодальных отношений вообще. Речь об этом идет в четвертой главе книги и связан данный поворот сюжета с вопросом о двойственности короля в отношении времени.
Канторович связывает двойственность с разницей между двумя ролями правителя. Один король находится в вечности; вне времени — тот, который владеет своим доменом и собирает налоги с подданных. Король «имеет отношение ко всем», здесь проявляется его прямая власть (мое выражение), не опосредованная сеньориально-вассальными отношениями. И это власть (и владение доменом) не может быть отчуждена, даже самим королем. Перед нами область так называемого «фиска» (“fisc”). Другой король находится внутри времени и власть его опосредованна всей системой феодальных связей: «Это новое удвоение (geminatio) короля проистекает из установления внутри королевства особого, так сказать, экстерриториального или экстрафеодального королевства — “вечного домена”. Его существование на протяжении более длительного срока, нежели жизнь отдельного короля, стало предметом общего и публичного интереса, потому что сохранность и целостность этого домена представляли собой вопрос, “касавшийся всех”. Соответственно, разделительную линию следует провести между делами, затрагивавшими только короля в его отношениях с отдельными подданными, и делами, касавшимися всех подданных, т. е. всей политии, всего сообщества королевства. Правильнее было бы проводить различие не между королем как частным лицом и королем как лицом публичным, а между королем-феодалом и королем-фиском — при условии, что под “феодальными” мы понимаем преимущественно дела, затрагивающие личные отношения между сеньором и вассалом, а под “фискальными” — дела, которые “касаются всех”» (С. 264–265). Исключительно интересное рассуждение имеет сразу несколько последствий и делает возможными довольно смелые выводы. Прежде всего, неожиданная параллель «короля христоподобного» (о котором у нас шла речь выше) и «короля фискального»; тот и другой свят (хотя второй как бы свят), что заставляет задуматься о происхождении высочайшего статуса фиска в европейской средневековой традиции вообще. Канторович лишь обозначает сюжет: «Однако прежде всего он приписывает неизменность и вечность не только церковной собственности, res sacrae или (как выражались другие) res Christi, но и res quasi sacrae или res fisci. Здесь и возникает кажущийся диким антитезис или сопоставление Christus-Fiscus, ранее совсем или почти совсем не привлекавшее внимания, — сравнение, которое, однако, отчетливо указывает на центральную проблему политической мысли в период перехода от Средних веков к Новому времени» (С. 265). Другой вывод связан не с темой исследования Канторовича, а с самой его книгой, с размыванием, «обесконечиванием» ее предмета. Двойственность человекобожественная, двойственность короля-человека и короля-Бога, короля в роли викария Христа и короля в роли викария Бога-Отца, короля, который выше Закона, и короля, который его ниже, короля-воплощения Закона и короля-его создателя и, наконец, вот это (причем, далеко не последнее!): король вечный (владелец неотчуждаемого домена и собиратель подати) и король временной (сеньор — лишь элемент, пусть и важнейший, феодальных связей).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]](/books/1097243/kirill-kobrin-srednie-veka-ocherki-o-granicah-ide.webp)