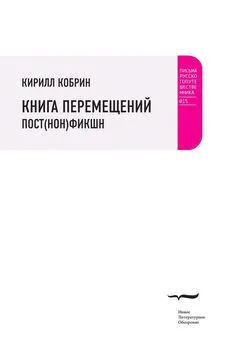Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]
- Название:Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центр гуманитарных инициатив
- Год:2016
- Город:Москва - Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98712-644-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии] краткое содержание
Книга адресована историкам, философам, филологам и культурологам, а также всем гем, кого интересует медиевистика и интеллектуальная история XX века.
Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Книга Отто Герхарда Эксле начинается с теоретической статьи, анализирующей «средневековые схемы истолкования социальной действительности», и заканчивается эссе «’’Образ человека” у историков». Между ними шесть статей, посвященных более конкретным историческим проблемам; но точно так же, как «теоретические тексты» основаны на интерпретации самого разнообразного фактического материала, «конкретно-проблемные» тексты являют собой образец авторефлексии историка в процессе работы с фактами. Так складывается сквозной сюжет книги: рефлексия историка над собственной рефлексией (и рефлексией коллег) по поводу своей работы — по мере производства самой этой работы. Иными словами, данный сюжет разворачивания образа «действительности» по мере создания «знания» о ней и, одновременно, разворачивания «знания» о «действительности», определенной развитием и фокусировкой того же самого «знания». В первой статье рассматривается релевантность средневековой «интерпретационной схемы» (определение Эксле — К.К.) «функционального трехчастного деления общества» самой социальной действительности. Сюжет классический для послевоенной историографии — особенно после известной работы Жоржа Дюби «Трехчастная модель, или Представления средневекового общества о себе самом» (1978). На первый взгляд, статья Экс-ле, написанная через 9 лет после этой книги, является полемическим жестом в отношении нее. Но это не так, или не совсем так. Эксле выступает против неверных, с его точки зрения, представлений о том, что «трехчастная схема» есть прямое отражение «социальной действительности» Средневековья и, более того, что она есть его непосредственное представление о себе самом (заметим в скобках, что, по нашему мнению, Дюби прямо этого не утверждает). Эксле ставит под сомнение «пассивность», «статичность» подобной модели взаимодействия. Если позволить себе кратко переформулировать рассуждение автора «Действительности и знания», то получается примерно следующее: «схемы истолкования социальной действительности» есть не статичное отображение чего-то, существующего само по себе, а процесс, который не только определен этой «действительностью», но и является составной ее частью (или даже трансформирует ее). Именно поэтому Эксле пишет: «… речь идет о том, чтобы отказаться от бесплодной альтернативы «’’копия” (“отражение") социальной действительности или “ирреальность" (“идеал")» (С. 45–46). Любопытно, что такой процесс, отбрасывающий ретроспективное влияние (задним числом объясняя что-то, бывшее до начала объяснения), в то же время направлен вперед, перспективно. Он конституирует, что социальная действительность и дальше будет устроена таким образом (или, хотя бы исходит из этой убежденности). Более того, с точки зрения современного наблюдателя, он (процесс, «схема истолкования») задает будущее понимание того прошлого, которое во многом определено им. Здесь как раз и находится источник недоразумения, в результате которого средневековая схема «трехчленного деления общества» была в XX в. принята на веру. Нынешний наблюдатель исходит из того, что данная схема статична и, в принципе, неизменяема, между тем, как она существовала более пятисот лет, — и уже сам этот факт ставит под сомнение то, что она была «копией», «отражением» тогдашнего общества. Ведь за это время общество менялось — и Эксле указывает на столь очевидное несовпадение (С. 46–47). Так или иначе, нынешний исследователь находится под влиянием этой схемы не в меньшей степени, чем ее средневековые воспроизводители; он, увы, часто не может занять позицию, внешнюю не только к «Средневековью», но и к «сегодняшнему мышлению о Средневековье» и, таким образом, отрефлексировать свое отношение к этим «средневековым схемам» 2 .
Впрочем, не со всеми положениями статьи можно согласиться. Эксле пишет: «В современном обществе (Moderne) рефлексия об обществе больше не носит метафизического характера… И поэтому она больше не может задавать неоспоримые и общепризнанные нормы поведения» (С. 44). Но ведь достаточно вспомнить ту очевидную нынешнюю мифологизацию (и даже своего рода онтологизацию) т. н. «среднего класса», который давно перестал быть скромным топологическим определением и превратился в главного спасителя и опору современного западного общества и демократии, в опору, которую следует растить и укреплять. «Средний класс» сегодня имеет однозначно положительную коннотацию, именно он задает сейчас нормы поведения, его ценности преподносятся как единственно возможные и позитивные; в этом смысле, средневековый автор значительно объективнее (пожалуй, даже трезвее) современного социолога: для него все сословия хороши, потому как воплощают созданный Богом порядок.
Вторая и третья статьи книги Эксле посвящены т. н. «клятвенным сообществам», которые, по мнению автора, стали основой не только гильдий, но и коммун (сельских и городских). В такого рода «горизонтальных» социальных структурах (сообществах), которые параллельны существующим «вертикальным» (сословным) структурам, он видит одну из главных черт средневекового европейского общества (и не только средневекового, достаточно вспомнить название третьей статьи: «Гильдия и коммуна: о возникновении “объединения" и “общины" как основных форм совместной жизни в Европе»). Для специалиста, знакомого с творчеством Эксле, это, пожалуй, самый важный сюжет немецкого историка. Обратим поэтому внимание лишь на один аспект, сколь бы неожиданным он ни казался — на сам феномен «параллельности». Дело в том, что в истории периодически возникают не только параллельные «социальные объединения», но также политические и властные структуры. И те, и другие появляются как следствие неудовлетворенности уже существующими сообществами и структурами. Они могут возникнуть в ситуации военной опасности, роста беззакония и насилия (в какой бы области жизни это ни происходило), или же в условиях, когда встают новые государственные задачи. В качестве примера последнего случая укажем на начало царствования Николая I, когда предпринимались попытки создания параллельных государственных структур; при функционировании уже существующих ими стали отделения Его Императорского Величества личной канцелярии. Главный вопрос заключается в следующем: почему одни проявления недовольства (что очень важно, осмысленного и отрефлексированного) существующими структурами приводят к их вытеснению (или даже уничтожению), а другие — к созданию «параллели»?
Еще две статьи книги посвящены некоторым религиозным движениям Высокого Средневековья. Если в первой из них речь идет о том, как связаны идея (и практика) «добровольной бедности» с идеей «мира» (“pax”), то вторая («Бедность и призрение бедных около 1200 г.: к вопросу о понимании добровольной бедности Елизаветы Тюрингской») представляет собой, некоторым образом, иллюстрацию к первой и развитие отдельных ее положений. Последний из этих двух текстов можно было бы отнести к жанру «история контекста»: сам по себе «контекст» не имеет формы, «история» придает ему внутренний сюжет. Как почти всегда бывает у Эксле, сюжет этот скорее теоретический: соотношение «социально-экономического» и «религиозного», и (или) — «действительности» и «знания». Трактуя его в понятиях «действительности» и «знания», можно сказать, что речь идет как о нынешнем знании о той действительности, так и о знании современников Елизаветы Тюрингской об окружающей их действительности. Если же перейти от теоретического уровня к, так сказать, жанровому, то Эксле дает здесь удивительно тонкий психологический портрет героини. Он создает у читателя ощущение присутствия Елизаветы Тюрингской в своем сознании и мышлении; это нынешнее знание о психологической реальности жизни средневековой святой можно было бы назвать «производством (или — «воспроизводством») присутствия» — кстати говоря, именно такую задачу ставит перед историком другой гуманитарий, профессор Стэнфордского университета Ханс Ульрих Гумбрехт 3 .
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Кирилл Кобрин - Средние века [очерки о границах, идентичности и рефлексии]](/books/1097243/kirill-kobrin-srednie-veka-ocherki-o-granicah-ide.webp)