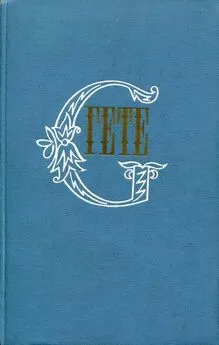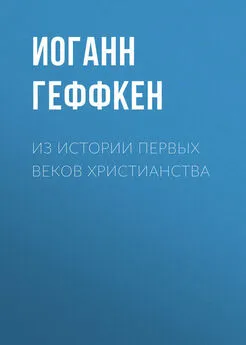Иоганн Дройзен - История эллинизма [В 3 томах]
- Название:История эллинизма [В 3 томах]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука. Ювента
- Год:1997
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иоганн Дройзен - История эллинизма [В 3 томах] краткое содержание
Дройзен сумел увидеть более общее, всемирно-историческое значение рассматриваемой им эпохи древней истории. Именно он дал этой эпохе емкое определение эллинизма, под которым при первом приближении он понимал «распространение греческого господства и образованности среди старых культурных народов (Востока)».
Однако в более широкой исторической перспективе содержание эллинизма понималось им как сложное взаимодействие и соединение западного и восточного миров, культур и религий, короче говоря, как синтез эллинского, восточного начал, итогом которого должно было стать возникновение новой мировой религии и культуры — христианства.
Историю эллинизма Дройзен представил преимущественно в ее политической форме; обзор эллинистического времени оказался доведен лишь до 220 г. до н. э. — до начала активного вмешательства в дела греков Римской державы; вся последующая история эллинизма (вплоть до подчинения римлянами в 30 г. до н. э. последнего эллинистического государства — птолемеевского Египта) осталась за пределами его внимания.
Но и то, что было сделано, поражает своей масштабностью, и в том, что касается политической истории раннего и зрелого эллинизма, труд Дройзена и по объему, и по основательности представленной реконструкции до сих пор не знает себе равных.
История эллинизма [В 3 томах] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Таков был двор и нация в том виде, какой им придал Филипп; мы должны прибавить, что монархический элемент в государственной жизни Македонии не мог не приобрести решительного перевеса, как благодаря историческому положению этого государства, так и благодаря личной энергии Филиппа. Характер и образ действий царя становятся понятными только в общей связи целого. Стоя в центре противоречий и противоположностей и самого разнообразного характера, грек относительно своего народа, македонянин для греков, он превосходил первых греческою хитростью и коварством, вторых македонскою грубостью и энергией, а тех и других ясным пониманием своих целей, строгой логикой в проведении своих планов и быстротою и тайною исполнения. Он умел всегда оставаться загадкой для своих противников, являться им всегда иначе, не с той стороны и не в том направлении, как они ожидали. Склонный от природы и сладострастию и наслаждению, он был также несдержан, как и непостоянен в своих привязанностях; часто он, по-видимому, находился вполне во власти своих страстей, а между тем во всяком данном случае он был их полным господином, трезвым и холодным, как этого требовали его цели; и можно сомневаться, где более проявлялась его истинная натура: в добродетелях ли, или в его ошибках. В нем, как в одной картине, отражаются образованность его века, его лоск, ум, фривольность и его смесь великих идей и утонченной изворотливости.
Решительной его противоположностью была его супруга Олимпиада, дочь эпирского царя Неоптолема, происходившего из рода Ахилла; Филипп в свои молодые годы познакомился с ней при праздновании мистерий в Самофракии и женился на ней с согласия ее опекуна и дяди, Ариббы. [53] Plut., Alex., 2. Ее отец Неоптолем вместе со сроим отцом Алкетом упоминается уже в постановлении афинского морского союза от 387 года (С. I. Attic., И, п° 17, строка 14). По смерти Алкеты Неоптолем и его брат Арибба, царствовавшие недолгое время вместе, разделили царство молоссов и по смерти Неоптолема опека над его детьми, Олимпиадой и Александром, перешла в руки их дяди Ариббы. В 357 году Олимпиада стала супругой Филиппа, а вскоре и ее брат является при дворе Филиппа (in Macedoniam nomine sororis arcessit omnique studio spe regni sollicitatum и т. д., Iustin., VIII, 6). Уже в 352 году Филипп был побужден воевать с Ариббой (Demosth., Olynth., I, § 14). Потом, когда Александру было двадцать лет, он уговорил его поднять оружие против своего дяди (ereptum Arybbae regnum puero admodum tradit, Iustin., ibid.). Арибба бежал в Афины и добился постановления, что афинские стратеги должны принять меры, 6'πως α[ναύτό]ς και of παίδες αύτου [κομι]σωνται την άρχην την πατρ[ώαν] (С. I. Attic., II, n° 115). В это время Филипп завоевал и передал Молоссу также и основанные элейцами города в Кассопии у Амбракийского залива. Арибба, по-видимому, вскоре после этого умер, и Александр остался единственным повелителем Эпира.
Прекрасная собой, несообщительная, полная внутреннего огня, она была горячо предана таинственному служению Орфея и Вакха и темному волшебству фракийских женщин; во время ночных оргий, гласит предание, она впереди всех носилась по горам в диком исступлении, потрясая фирсом и змеей; в ее снах повторялись те же фантастические картины, которыми был полон ее ум; за день до свадьбы, гласит предание, она видела во сне, что вокруг нее шумит грозная буря, что яркая молния ударила в ее чрево, что затем из него блеснул яркий огонь, пожирающее пламя которого широко распространилось и затем исчезло. [54] Неизвестно, основано ли изображение Олимпиады на находящейся в берлинском монетном кабинете золотой монете (представляющей собою, по-видимому, уникум) на подлинной традиции, или нет. По мнению von Sallet (Num. Zeitung, III, 56), эта монета принадлежит времени Каракаллы.
Когда предание говорит нам, что в ночь, когда родился Александр, кроме многих других знамений сгорел в Эфесе храм Артемиды, который с Мегабизом, стоявшим во главе своих евнухов и иеродулов, был для эллинов настоящим восточным святилищем, что затем весть о рождении сына царь Филипп получил единовременно с известием о трех победах, [55] Об олимпийской победе (01. 106), о взятии Потидеи и о победе Пармениона над иллирийскими дарданцами (Plut., Alex., 3). По расчету Ideler'a (Abh. der Berl. Acad. 1820 и 1821, и Handb. der Chronol., I, 403 слл.) рождение Александра приходится на Боэдромион (01. 106) (16 сент. – 14 окт. 356 года). Мы увидим из Приложения, что оно должно быть помещено после 24 сентября и ранее половины декабря. Невозможно, чтобы весть об одержанной около 17 июля в Олимпии победе достигла царя только в конце сентября. Синхронизм этих трех событий, подобно многим другим синхронизмам греческой истории, есть или народная комбинация, или придуман для облегчения заучивания в школах, но бесспорно лишен всякого прагмо тического значения.
то в форме сказки она выражает общий смысл богатой подвигами жизни героя и идею великой связи между событиями лучше, чем это часто тщетно старалась указать наука, а еще чаще преувеличивала.
Говоря о царе Филиппе, Феопомп говорит: [56] Theopomp., fr., 27, ар. Polyb., VIII, 11.
"Никогда, принимая все во внимание, Европа не носила такого человека, как сын Аминты". Но чтобы завершить дело, в котором он видел цель своей жизни, ему, упорному, расчетливому, работавшему не покладая рук, недоставало последнего - нечто, которого ему не было дано судьбою. Он мог ухватиться за эту мысль, как за средство объединить Грецию и обратить взоры своих македонян к высшей цели; эта мысль была внушена ему образованностью и историей Греции; к этой мысли вынудило его то трудное положение вещей, в котором ему так долго и так тяжело приходилось бороться, а к ее осуществлению не необходимость и не неудержимая увлекательность этой мысли; видя его медлящим среди постоянно новых приготовлений и уклоняющимся в сторону, можно было бы усомниться в его вере в нее; конечно, эти приготовления были необходимы; но, нагромождая Оссу на Пелион, вы все-таки не достигнете Олимпа богов. Да, он видел по ту сторону моря страну побед и будущности Македонии; но затем его взгляд затмился; и его планы заволоклись воздушными образами его желаний. То же искание великого дела сообщилось от него его окружающим, знати и всему народу, оно сделалось постоянно звучащим основным тоном македонской жизни, заманчивой тайной будущего: они воевали с фракийцами и побеждали греков; но целью, для которой они воевали и побеждали, был восток.
В такой среде провел Александр годы своего детства, и уже рано душу мальчика должны были занимать сказания о востоке, о тихой золотой реке и источнике солнца, о золотой виноградной лозе с кистями изумрудного винограда и о лугах Нисы, где родился Дионис; затем он подрос и услыхал о победах при Марафоне и Саламине, о священных храмах и гробницах, разрытых и оскверненных персидским царем с его состоявшим из рабов войском, о том, как тогда и его предок, Александр первый, должен был дать персам воду и землю и последовать за ними с войском против эллинов, как теперь Македония пойдет на Азию и отомстит за предков. Когда однажды в Пеллу прибыли послы из персидской столицы, он заботливо расспрашивал их о войсках и народах их царства, о законах и обычаях, об организации и жизни этих народов, и персы удивлялись мальчику. [57] Если в основе этого сохраненного Плутархом анекдота лежит истина, то этот факт должен был происходить до войны с Перинфом и Византием, т. е. когда Александру еще не было пятнадцать лет. Перс Артабаз и его зять Мемнон, бежавшие из Персии, уже находились при дворе Пеллы.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Иоганн Дройзен - История эллинизма [В 3 томах]](/images/nocover.webp)