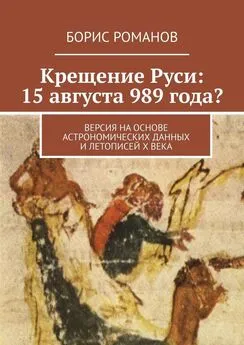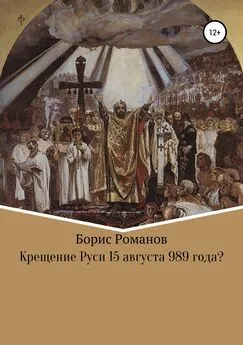Борис Романов - Люди и нравы Древней Руси
- Название:Люди и нравы Древней Руси
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ломоносовъ
- Год:2013
- Город:М.
- ISBN:978-5-91678-155-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Романов - Люди и нравы Древней Руси краткое содержание
Борис Александрович Романов (1889–1957) — доктор исторических наук, выдающийся знаток древнерусской жизни.
Люди и нравы Древней Руси - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Направляя острие своей агитации против боярской службы, «Послание» Заточника останавливается и еще на двух вариантах устройства судьбы своего героя без помощи и милости князя. И тоже далеко не в эпическом роде.
Один вариант — уйти в монастырь и там найти себе пожизненное прибежище. «Или скажешь, княже: в чернецы постричься?». — «Лучше бы мне жизнь свою кончить, чем в монашеском образе Богу солгать… Нельзя Богу солгати, ни вышним играти». Пишет это мирянин, тот же самый «смысленый»: представить себе хоть на минуту, что он чернец, — как увидеть «черта на бабе ездяща», «мёртвого на свинье», «от дуба смоквы», «от липы изюма»; это просто чепуха, никто не поверит. Да он и не выдержит монашеского обета, хотя стоит целиком на церковной платформе и слишком уважает церковь, чтобы играть святыней. Ему просто не дано совершить подвига в стиле, например, Феодосия Печерского, проходившего свой «отроческий» стаж в окраинном непривлекательном Курске у местного «властелина» при его церкви. Не осудил бы Заточник и ни одного из попавших на страницы «Печерского патерика» иноков-бедняков, включая даже, вероятно, и безымянного «портного швеца», над которым Феодосий проделал суровый опыт «послушания», прежде чем тот после ряда уходов на волю и возвращений осел-таки прочно в монастыре. [22] Патерик Печерский, с. 41.
Но он, Заточник, не создан для подобных подвигов, он просто лояльный христианин. Не то, что другие многие, против которых, собственно, и направлен резкий выпад в следующих строках «Послания» XIII века: они «отшедше мира сего во иноческая, и паки возвращаются на мирское житие, аки пес на своя блевотины, и на мирское гонение» (скитание); они «обидят [обходят] села и домы славных мира сего, яко пси ласкосердии», то есть обращаются в странствующих приживальщиков богатых домов. А в результате — безобразное, непристойное бытовое явление: «Иде же брацы и пирове, ту [там, тут как тут] черньцы и черницы и беззаконие: ангельский имея на себе образ, а блядной нрав, святительский имея на себе сан, а обычаем похабен».
Нет нужды видеть здесь какую-либо цитату, как то часто бывает у Заточника. В выпаде этом нет ничего и противоцерковного или противомонастырского. Это именно то, что являлось предметом забот, осуждения и беспокойства у самих древнерусских церковников, начиная с митрополита Иоанна (XI век). За чернецами и черницами «Послания» Заточника стояла весьма многочисленная и грозная бродячая Русь, отмечаемая памятниками XII–XIII веков как широкое бытовое явление. Странствующий чернец стал необходимой принадлежностью быта господствующего класса — это было существенным достижением христианской церкви, может быть, не меньшим, чем констатированное митрополитом Иоанном в конце XI века внедрение в быт того же класса церковного брака, «благословения и венчания». [23] Правило митр. Иоанна, с. 18, ст. 30. Ср. ниже, с. 155, 166–167 и 171.
Венчальный брак — это последний вариант избавления от бед для нашего героя: «Неужели скажешь мне: „Женись у богатого тестя, чести ради великой; у него пей и ешь“?» Отвергая и этот вариант, «Послание» XIII века исходит, по существу, из церковно-политической схемы: «Женам глава мужи, а мужем князь, а князем Бог», не связывая ее, однако, ни с каким церковным авторитетом и упоминая о ней даже вне прямой связи с темой о брачном варианте. Наоборот, «Слово» XII века еще не выдвигает этой церковно-политической схемы и предпочитает связать свою тему непосредственно со словами апостола Павла: «Крест есть глава церкви, а муж жене своей», значительно тщательнее и шире трактуя эту тему.
«Послание» явственно сокращает пространный и темпераментный текст «Слова» и, хоть и не целиком, отказывается от фигуры «злой жены», однако же активно фиксирует внимание на «злообразной жене» и на неравном браке по расчету: «Блуд во блудях, кто жену злую заимеет, приданого ради или ради тестя богатого. Лучше мне корова в доме моем, нежели жена злообразная». [24] В первом случае еще сохраняется «злая», но во втором уже «злообразная», в чем можно видеть след отмеченной тенденции к сужению темы.
Ясно, что именно неравная имущественная база брака должна будет опрокинуть его идеальную схему: «Ни птица в птицах сыч, ни в зверех зверь еж, ни рыба в рыбах рак, ни скот в скотех коза, ни холоп в холопех, кто у холопа работает, ни муж в мужех, кто жены слушает, ни жена в женах, которая от мужа блядетъ…» Муж окажется в этой ситуации стороной не только подчиненной, но и накрепко прикрепленной к отвратительному существу, на описание которого «Послание», не в пример «Слову», и устремляет свою литературную энергию: «Видел злато на жене злообразной и сказал ей: злату сему тяжело»; «злообразная жена болячки хуже, и сюда болит, и туда свербит»; обычно в таком браке она старше самого героя: «Еще видел жену старую, злообразную, кривозракую, черту подобную, ртастую, челюстастую, злоязычную и к зерцалу приникшую, и сказал: „Не в зерцало зри, пора в гроб смотреть. Не достойно злообразной на уродства свои в зеркала смотреть, себя позорить, лишь большой тоски, печали добиваться“».
Конечно, такая «злообразная» жена неизбежно и «злая», но то обстоятельство, что «зла жена» «до смерти сушит» и что «со злою женою быти» хуже, чем «железо варити», находит себе объяснение именно в приведенном ярко намалеванном образе отвратного чудища, а не во внутренних свойствах «жены».
Такая узкая трактовка предмета в «Послании» — несомненно результат тенденциозной переделки первоначального текста «Слова», где «злообразна жена», мелькнув в начале тирады в охорашивающейся («мажущися») позе перед зеркалом, далее начисто уступает место «злой» жене, а брак, по началу неравный, незаметно превращается в арену борьбы двух сторон, независимо от имущественной его базы, и сама жена — в красавицу-чаровницу; почему и соответствующая «мирская притча» в тексте «Слова» звучит резче и с иным смыслом: «ни муж в мужах, если над ним жена властвует». Отпадают внешние черты и выступает психологический момент: «бурый вол», например, оказывается предпочтительнее в доме, чем «зла жена», потому что «вол бо не молвит, ни зла мыслит, а зла жена бьема [когда ее бьешь] бесется, а кротима [когда хочешь взять ее кротостью] высится» (берет еще большую власть) — и это независимо от того, «в богатестве» ли происходит дело (тогда она еще большую «гордость приемлет») или «в убожестве» (тогда она «иных осужает»). При этом «злая» не значит просто «злобная». Злая — это источник всякого зла, дурная. Это — «мирский мятеж, ослепление уму, начальница [источник, заводчица] всякой злобе, в церкви бесовская мытница [даже в церкви собирает дань в пользу беса, как мытник при перевозке товара через феодальную заставу — „мыт“]… засада [ловушка] спасению».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: