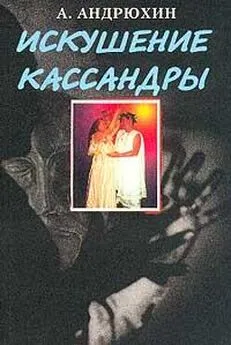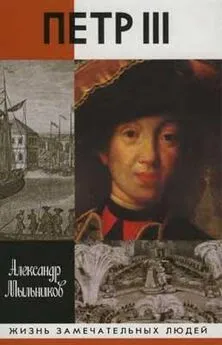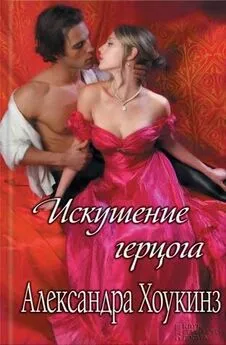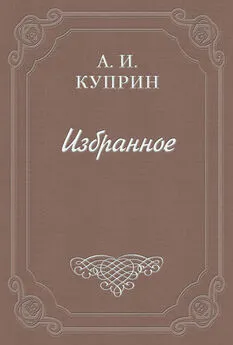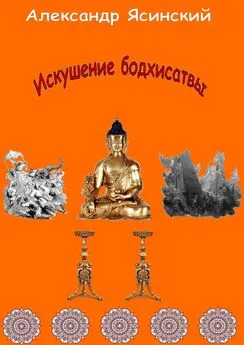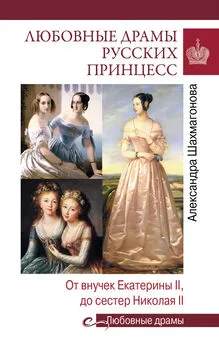Александр Мыльников - Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы]
- Название:Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1991
- Город:Ленинград
- ISBN:5-02-027298-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Мыльников - Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы] краткое содержание
Для историков и широкого круга читателей, интересующихся историей России и славянских стран.
Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Екатерина II, судя по тональности донесения, о заявленном протесте не знала. Иначе Голицыну не потребовалось бы излагать предысторию венецианского ответа, деликатно именуя царствование Петра III «прежним правлением».
Столь быстрая и решительная реакция на послание черногорских митрополитов заставляет задуматься о многом. В частности, о возможных намерениях правительства Петра III относительно политики в османском вопросе. Известно об этом немного. Да и неудивительно: «прежнее правление» было слишком непродолжительным, чтобы подобные намерения могли вылиться в сколько-нибудь отчетливые планы. Но в существовании таких намерений едва ли можно сомневаться. Сошлемся вновь на хорошо известный и опубликованный «во всеобщее сведение» указ о коммерции, в котором подчеркивалось, что «нет государства в свете, положение которого могло б удобнейшим образом быть к произведению коммерции, как нашего в Европе». Далее, в частности, говорилось, что у России «в самый Египет и Африку по Черному морю, хотя еще неотворенная, но дорога есть».
Как красноречиво это слово «еще»! Ведь исконная и жизненно важная для экономики страны дорога через причерноморские степи была на несколько столетий «затворена» Османской империей и ее сателлитом Крымским ханом. «Отворить» ее было невозможно без борьбы с ними. А это полностью совпадало с интересами славянского населения Балкан, издавна ожидавшего помощи от России для своего освобождения от иноземного ига. Сложное переплетение этих факторов потенциально создавало для правительства Петра III необходимость в недалеком будущем серьезно заняться славянским вопросом. В сущности первые признаки этого уже имелись. И хотя они были еще скромными, но начало было положено. И потому в зарубежной славянской среде, прежде всего у южных славян, возникали новые надежды, в отголосках сопряженные с именем Петра III.
Не следует, конечно, ни идеализировать, ни преувеличивать сделанного за недолгих 186 дней. Но, характеризуя в самых общих чертах ведущие тенденции внутренней и внешней политики правительства Петра III, можно обнаружить в ней несомненные признаки курса «просвещенного абсолютизма». «Так называемый Век Екатерины, — подчеркивал С. О. Шмидт, — начался по существу еще за несколько лет до ее восшествия на престол» [163, с. 58]. И, добавим мы, указанная особенность своеобразно преломлялась в содержательных представлениях народного самозванчества при поразительном порой сопряжении круга связей со своим окружением настоящего Петра Федоровича и тех, кто себя за него выдавал.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
— Все ли спокойно в народе?
Нет, император убит.
Кто-то о новой свободе
На площадях говорит.
Александр БлокВ народном сознании день переворота 28 июня 1762 г. и ближайшие к нему дни стали важной точкой отсчета. Самой легенды о чудесном спасении Петра Федоровича еще не существовало. Но мыслительный материал для ее создания заквашивался именно тогда.
Позднее Екатерина II уверяла, что перед ней в то время стояла дилемма: «Или погибнуть вместе с полуумным, или спастись с толпою, жаждавшею от него избавиться» [121, с. 6]. Это была ложь, но ложь убедительно звучавшая и принесшая обильные всходы. Ей поверил даже такой авторитетный историк XIX в., как С. М. Соловьев. Он характеризовал заговор Екатерины Алексеевны как следствие «всенародного недовольства» [144, т. 13, с. 76–78]. На самом деле было наоборот: события 28 июня явились следствием не спонтанного акта народной самозащиты, а длительно готовившегося замысла.
Еще в последние годы царствования Елизаветы Петровны в узком кружке придворной знати обсуждался план высылки Петра Федоровича в Голштинию, объявления наследником престола малолетнего Павла с установлением регентства Екатерины. Однако план этот многих не устраивал, в первую очередь предполагаемую регентшу. Ведь с первых же дней приезда в Россию она мечтала водвориться на троне сама. И когда в конце 1761 г. капитан гвардии М. И. Дашков, муж Екатерины Романовны, предложил великой княгине возвести ее на престол, то в ответ услышал слова, которые позднее сама Екатерина воспроизвела в мемуарах с предельной откровенностью: «Я приказала ему сказать: „Бога ради, не начинайте вздор; что бог захочет, то и будет, а ваше предприятие есть рановременная и не созрелая вещь“» [68, т. 12, ч. 2, с. 500]. Запомним эту отсылку к божественному промыслу — вскоре это Екатерине сослужит службу. Да, как умный и коварный политик она чувствовала, что в декабрьские дни 1761 г., когда медленно угасала Елизавета Петровна, захват чужого престола и в самом деле был бы воспринят как «не созрелая вещь». Но надлежащие выводы Екатерина сразу же сделала. Выть постоянно начеку, провоцировать Петра, превосходно зная его характер, на неосторожные и непопулярные действия, а одновременно обрабатывать исподволь в свою пользу влиятельных сановников и гвардию, дожидаться подходящего момента и, выбрав его, нанести удар — вот тактика, которой стала придерживаться Екатерина с первого же дня восшествия на престол своего супруга.
Спустя 16 лет после июньских событий опальный наследник престола Павел (ему шел 24-й год) делился мыслями с П. И. Паниным о причинах свержения своего отца. «Здесь, — писал он, имея в виду кончину Елизаветы Петровны, — вступил покойный отец мой на престол и принялся заводить порядок; но стремительное его желание завести новое помешало ему благоразумным образом приняться за оный; прибавить к сему должно, что неосторожность, может быть, была у него в характере, и от ней делал вещи, наводившие дурные импрессии, которые, соединившись с интригами против его персоны, а не самой вещи, погубили его и заведениям порочный вид старались дать». Трудно сказать, какие чувства испытывал при чтении этих строк родной брат одного из главных противников Петра III. Но Павел Петрович рассуждал намного глубже и основательнее, чем несколько поколений последующих историков [89, с. 580].
С первых же дней прихода к власти Петр III торопился все лично увидеть, лично проверить. Его стремительные, без предупреждения наезды в высшие правительственные учреждения, куда никто из царей давно не заглядывал, пугали светскую и церковную бюрократию, привыкшую к спокойной и бесконтрольной жизни. Темпераментным выражением крайнего раздражения императора этим может служить указ Синоду от 26 марта. Поводом послужили челобитные священника Черниговской епархии Бордяковского и тамошнего дьякона Шаршановского, разобраться в которых еще в 1754 г. приказала Елизавета Петровна. Но вместо этого синодальные чиновники волокитили и возвращали челобитные тем, на кого они были написаны. Считая «потачки епархиальным начальникам» типичными для стиля работы Синода, Петр III со всей прямотой писал, что «в сем пункте Синод походит больше на опекуна знатного духовенства, нежели на строгого наблюдателя истины и защитника бедных и неповинных». Говоря, что причины такой позиции «соблазнительнее еще самого дела», Петр Федорович с возмущением продолжал: «Кажется, что равной равнаго себе судить опасается, и потому все вообще весьма худое подают о себе мнение». Потребовав от Синода немедленного решения не только по данному делу, но и по аналогичным жалобам, он объявлял, что «малейшее нарушение истины накажется как злейшее государственное преступление», для оповещения о чем настоящий указ опубликовать «для всенародного известия» [7] Синоду удалось затянуть дело, указ опубликован не был, а в августе уже Екатерина II приказала «за долговременное разорение и страдание» А. Бордяковского определить на вакантное место в столице (Русский архив. 1894. Кн. 1. Вып. 2. С. 190–192).
. Понятно, что подобные крутые меры Петра III вызывали раздражение против императора, которым и воспользовались сторонники Екатерины.
Интервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Мыльников - Искушение чудом [«Русский принц», его прототипы и двойники-самозванцы]](/books/1098909/aleksandr-mylnikov-iskushenie-chudom-russkij-princ-ego-prototipy-i-dvojniki-samozvancy.webp)