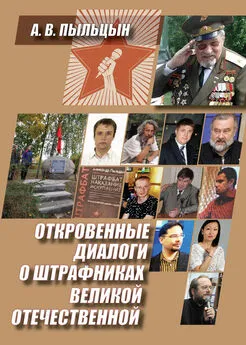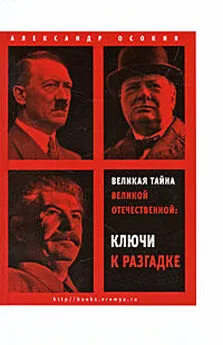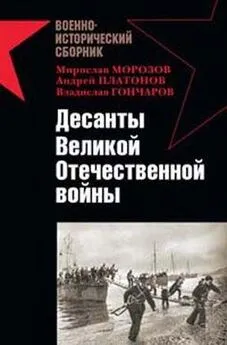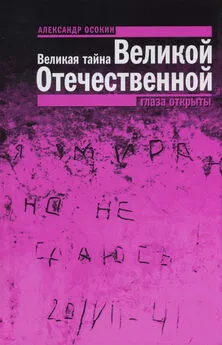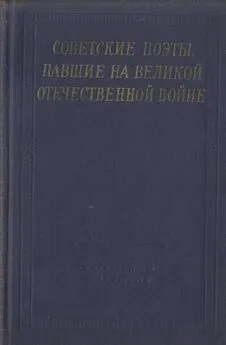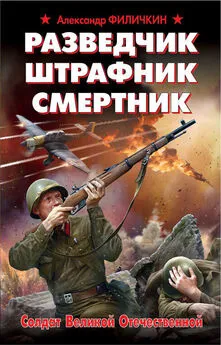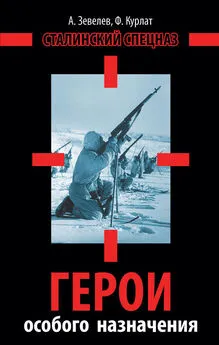Александр Пыльцын - Откровенные диалоги о штрафниках Великой Отечественной
- Название:Откровенные диалоги о штрафниках Великой Отечественной
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ЦСЛК
- Год:2017
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-94422-045-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Пыльцын - Откровенные диалоги о штрафниках Великой Отечественной краткое содержание
Некоторые видеоинтервью на части телеканалов были «купированы», из них были удалены фрагменты, противоречащие точке зрения руководителей этих теле-СМИ.
Отдельные видеоинтервью, не подвергшиеся «обработке» на телеканалах, в текстуальном варианте предлагаются читателям в этом сборнике.
Откровенные диалоги о штрафниках Великой Отечественной - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Дело в том, что у штрафника отведенные ему месяцы срока службы в штрафбате считались только в боевых условиях, а когда он находился в тылу, то срок, соответственно, не шел. Вот они и пели: «Когда ж нас в бой пошлет товарищ Сталин», потому что только в бою можно было искупить свою вину перед Родиной и вернуть себе офицерское звание.
Я вам больше скажу: среди штрафников было немало тех, кто даже при лёгком ранении не уходил с поля боя, просто не мог бросить своих боевых товарищей. Вот, например, был у меня в подразделении один боец, к сожалению, не помню его фамилии, помню только, что он был узбеком. Воевал он первым номером в расчете противотанкового ружья. Он подбил танк, за это я написал реляцию на его освобождение, ему даже полагался орден Отечественной войны. Когда я отправил реляцию вышестоящему руководству, он подошел ко мне расстроенный и спросил: «Кому же я свое ружье оставлю?» Он не хотел уходить из штрафбата, понимаете? Этому человеку было неважно, что в штрафбате вероятность погибнуть была куда выше, чем в обычных частях, ему была важна боевая солидарность: не на кого оставить противотанковое ружье!
Литвинов А.: После ваших слов все представления о штрафбатах переворачиваются. Мы же привыкли слышать об уголовниках, которых гнали на врага заградотряды…
Пыльцын А.В.: На это я вам приведу лишь один показательный пример. Когда мы брали Рогачев в Белоруссии, по приказу командарма Горбатова батальон получил задачу прорваться через линию фронта и действовать в тылу врага. Мы выполнили поставленную задачу — преодолели передний край противника и целых три дня воевали у него в тылу. Какие там могли быть заградотряды?! Воевали мы превосходно, такой порядок наводили, что дивизия смогла с фронта взять Рогачев. Причем в тех боях из 800 человек мы потеряли всего около 50.
И, кстати, за эту операцию из оставшихся в живых 750 человек 600 освободили без пролития крови, за подвиг! При этом не имело значения, у кого какой срок нахождения в штрафбате, кто-то там воевал уже 3-й месяц, а кто-то 1-й, за несколько дней боёв освободили почти всех!
Литвинов А.: Александр Васильевич, в завершение беседы хочется развеять еще один миф о войне, тоже обсуждаемый довольно часто: фронтовые 100 граммов: были они, или это тоже художественная присказка?
Пыльцын А.В.: А вот это правда. Причем вы не поверите, да я и сам порой удивлялся, но на фронт водку доставляли иногда в пол-литровых стеклянных бутылках. Было поразительно и казалось невероятным, что она вообще туда доставлялась, да еще и в такой таре! Выдавали ее перед боем, одну бутылку на пятерых. То есть вы сами понимаете, что это не так уж и много. Но дело даже не в количестве, а в том, что при таком адреналине, волнении и стрессе, который испытывает человек перед атакой и в ней самой, а тем более в рукопашной борьбе, водка была крайне незначительным и малодейственным допингом.
В свою очередь, в завершение разговора я бы хотел еще раз отметить, что штрафников не бросали на произвол судьбы, как принято об этом думать. Они никогда не были «пушечным мясом», и на бессмысленные задания их тоже не отправляли. К нам поступали офицеры из совершенно разных подразделений, и с боевым опытом, и тыловики, и с оккупированных мест. Но при этом офицер-танкист не умеет воевать в пехоте, равно как и летчик, и артиллерист, тем более — интендант. Поэтому достаточное количество времени тратилось на их обучение, выработку определенных навыков. Пожалуй, можно даже сказать, что мы учили их не только воевать, но и, в первую очередь, мы учили их выживать!
Литвинов: Спасибо за беседу!
Штрафные удары по фальсификаторам. Интервью Литературной газете № 8 (6543) 24.02.2016 г. Владимир Шемшученко
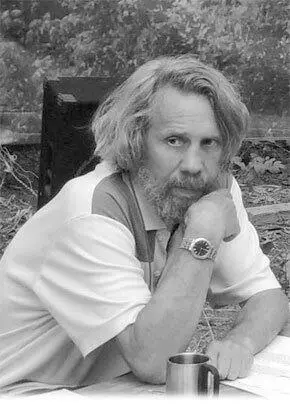
В последние десятилетия появилось много «искателей правды» о Великой Отечественной войне, которые во всей непростой военной истории нашей страны выискивают и беспардонно преувеличивают только трагические её страницы, а если таковых не находят, то безбожно лгут, выдумывая небылицы.
Потому сберечь истинную, а не выдуманную историю всего нашего героического военного поколения так важно сейчас, когда она, эта история, порой бессовестно, тенденциозно искажается некоторыми «историками», писателями, сценаристами, драматургами.
Сегодня на вопросы «Литературной газеты» отвечает писатель, ветеран Великой Отечественной войны, командир роты офицерского штрафбата, генерал-майор Вооружённых Сил СССР в отставке Александр Пыльцын.
Шемшученко В.: Александр Васильевич, сначала расскажите немного о себе…
Пыльцын А.В.: Родился я в 1923 году в семье железнодорожника на разъезде Известковый в Облученском районе Еврейской автономной области. Затем семья несколько лет жила в железнодорожной казарме между Известковым и Бираканом, а в 1931 году переселилась в посёлок Кимкан. Здесь в 1938 году я окончил школу-семилетку. В этом же году моего отца — дорожного мастера — за допущенную его подчинёнными ошибку при ограждении участка работ по замене рельса, что едва не привело к крушению пассажирского поезда, осудили за халатность на 3 года ИТЛ.
Я очень хотел учиться дальше, но ближайшая средняя школа была в 40 километрах от нашего посёлка в г. Облучье. Для того чтобы жить там в интернате и учиться, нужны были средства, которыми наша семья уже не располагала. Братья служили в армии, и ещё была у меня маленькая сестрёнка. И тогда по своему разумению я написал письмо наркому путей сообщения Л.М. Кагановичу, в котором рассказал ему о своём желании учиться и о своём отце. Вскоре, я, школьник, получил правительственное письмо, в котором распоряжением наркома мне обеспечивались за счёт железнодорожного профсоюза все виды платежей за обучение до получения среднего образования и проживание в интернате при школе, а также бесплатный проезд по железной дороге к месту учёбы и обратно. 20 июня 1941 года я закончил школу, а 22-го началась война…
Мы — мальчишки — сразу поехали на соседнюю станцию в военкомат, а там уж было столпотворение. Мы двое суток простояли в очереди с заявлениями, но все места в военные училища уже были «разобраны». В итоге, поскольку я ещё не достиг призывного возраста 18 лет, я написал заявление «на фронт» добровольцем, но был призван во 2-ю Краснознамённую армию Дальневосточного фронта. Закончил в июле 1942-го 2-е Владивостокское военно-пехотное училище в Комсомольске-на-Амуре. Служил на Дальневосточном фронте, а с января 1943-го — в Южно-Уральском военном округе.
С декабря 1943 года воевал в 8-м Отдельном штрафном батальоне 1-го Белорусского фронта, прошел от Белоруссии до Берлина. Был командиром взвода и роты, трижды ранен. Награждён орденами и медалями.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: