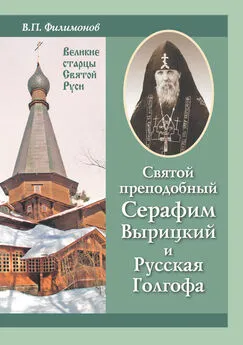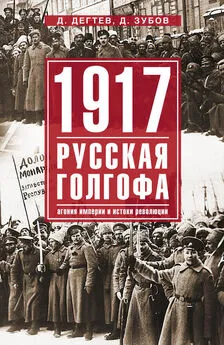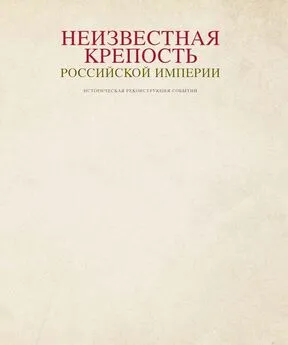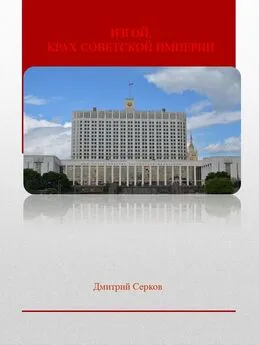Дмитрий Дегтев - 1917: русская голгофа. Агония империи и истоки революции
- Название:1917: русская голгофа. Агония империи и истоки революции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-07562-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Дегтев - 1917: русская голгофа. Агония империи и истоки революции краткое содержание
Кроме того, авторы книги дают свой ответ на несколько важнейших вопросов. В частности, когда поезд российской истории перешел на революционные рельсы? Правда ли, что в период между войнами Россия богатела и процветала? Почему единение царя с народом в августе 1914 года так быстро сменилось лютой ненавистью народа к монархии? Какую роль в революции сыграла водка? Могла ли страна в 1917 году продолжать войну? Какова была истинная роль большевиков и почему к власти в итоге пришли не депутаты, фактически свергнувшие царя, не военные, не олигархи, а именно революционеры (что в действительности случается очень редко)? Существовала ли реальная альтернатива революции в сознании общества? И когда, собственно, в России началась Гражданская война?
1917: русская голгофа. Агония империи и истоки революции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Из утраты интереса к обладанию Константинополем вытекал важный вывод: Россия оказалась вовлеченной в полномасштабную войну, требующую привлечения всех ресурсов, не имея подлинной, воодушевляющей народ общенациональной цели. Эта ситуация была бы, возможно, терпимой в случае скоротечности войны, но напряжение нескольких лет и потери, исчисляемые миллионами человеческих жизней, делали сомнительной моральную оправданность жертв» [50].
«Веселиться, несмотря на войну!»
Второе военное Рождество россияне праздновали со смешанными чувствами. С одной стороны, большинство продолжало ходить с суровыми лицами, всем видом демонстрируя серьезность переживаемых событий. С другой – восприятие войны было совсем не тем, что за год до этого и даже минувшей осенью. Газеты были еще полны пафосных заголовков и перед Новым годом печатали стихи наподобие этих:
Ткет цепь свою из красных цепких нитей
Чудовищный безжалостный паук.
И бьется в ней, мучительно страдая,
Душа несчастная и гибнет в море слез,
Зовет Тебя, бесчувствуя, рыдая:
«Зачем, зачем оставил нас, Христос?»
В городах проходил очередной сбор подарков для солдат на фронте. «… Более ценными подарками могут быть следующие предметы: сапоги, валенки, чулки, теплые портянки, теплое белье, жилеты, перчатки, шарфы, табак, папиросы и спички, бумага для курения, мыло, свечи, открытки, почтовая бумага, конверты, карандаши, английские булавки, иголки, нитки, шила, пуговицы, машинки для стрижки волос, бритвы, ножницы, средства от насекомых, материал для починки сапог, подметки, куски кожи и т. п.», – сообщало соответствующее объявление в газете.
«Второе Рождество мы встречаем во время войны. И теперь война дает себя уже больше чувствовать, чем в прошлом году, – писал „Нижегородский листок“. – Тогда она казалась очень далекой от нас, до нас доходили лишь отзвуки ея. Мысленно мы, правда, были там, на войне, может быть, больше, чем теперь. Теперь война уже стала для нас обыденностью, но эта обыденность уже вошла в нашу жизнь, она уже не далеко, а возле нас. Город переполнен беженцами, цены на все растут, продовольственные вопросы все более занимают нас».
В действительности, не дождавшись быстрой победы, народ стал постепенно терять интерес к событиям войны. Даже второй рождественский «кружечный сбор», проводившийся под лозунгом «Солдату в окопы», местами фактически провалился. Впервые такое мероприятие проводилось в конце 1914 года. Учителя и представители земств в буквальном смысле слова с кружками в руках совершали обход всех домов, призывая население класть туда пожертвования воинам, сражавшимся на фронте. Тогда практически все граждане, не раздумывая, клали в кружки чуть ли не последние деньги. Это ж для наших героев, все для победы!
Однако победы так и не случилось, состояние аффекта, которое всегда является кратковременным, сменилось равнодушием и даже апатией. «Отношение крестьян к этому сбору, конечно, иное, чем к сбору прошлого года, – писала пресса. – Теперь попадались закрытые двери, приходилось слышать и категорические отказы. Ссылаются на то, что сами чуть не каждую неделю посылают всего своим солдатам».
Журналисты были особенно поражены тем фактом, что, невзирая на тяжелое положение на фронте и огромные миллионные жертвы, народ собирается как ни в чем не бывало отмечать праздники! И это при том, что год назад, когда русская армия, как казалось, побеждала, не то что праздновать, даже выказывать праздничное настроение считалось зазорным и чуть ли не предательством. Теперь же армия и флот терпели сплошные поражения, а народ, напротив, собирался праздновать и даже не скрывал этого!
«Как бы то ни было, несмотря на войну, жизнь у нас не замерла, – писала пресса. – Если бы какой-либо американец заглянул к нам, он мог бы прийти к заключению, что влияние войны совсем незаметно. В театре он увидел бы аншлаги: „Все места проданы“. Перед праздниками, несмотря на страшную дороговизну, магазины переполнены, на базарах припасы бойко раскупаются, как бы торговцы ни взвинчивали цены. Хорошо проходят концерты, разные увеселения, лотерея, хотя все теперь жалуются на дороговизну, говорят о тяжелом времени, и только изредка срываются слова о „хорошем годе“. Конечно, все это ненормально, ведет к обогащению одних и нищете других, и все это оставит, несомненно, большие следы на нашей последующей жизни после войны. Теперь же пока „пир во время чумы“, и он отразится и на праздниках, на которых, конечно, будет немало увеселений, немало и елок».
Поистине удручающе выглядел и тот факт, что война вместо сплочения и единения общества (а таковая иллюзия была осенью 1914-го), наоборот, увеличила его расслоение и разобщение. Одни стали стремительно нищать, другие, напротив, быстро богатеть. Люди постепенно делились на тех, кто страдал и терпел лишения от войны, и тех, кому она стала «матерью родной». Даже массовый наплыв беженцев в тыловые города во второй половине года, как ни парадоксально, привел к оживлению торговли и других видов коммерции.
«Война бедствие, но для многих она доходна, – писала пресса. – Беженцы – тоже бедствие, но все они едят, пьют, одеваются, а поэтому на них можно сбывать разные припасы, цены на которые растут, потому что припасов не хватает, их меньше и производится. Торговля поэтому идет бойко, разные ремесла дают большой доход, а у многих людей делается порядочно свободных денег. Отсюда хорошо идут дела – увеселителей, кинематографов, театра, цирка. И среди беженцев не все бедствующие люди, прибыла и значительная часть людей состоятельных. Все это, – несмотря на бедствия войны, кладет на текущую жизнь отпечаток достатка».
Удивительно, но некоторые торговцы умудрялись наживаться даже на пленных!
«С каждым днем пленных в Сибири становится все больше и больше, – сообщали СМИ. – Уже теперь их надо считать здесь десятками тысяч, а между тем, почти ежедневно, прибывают все новые и новые транспорты, как с Западного и Восточного фронтов, так и с Кавказа.
Теперь уже можно отметить, что отношения между пленными и местным населением установились очень хорошие и что никаких притеснений пленные в Сибири совершенно не терпят. Напротив, пленные славяне встречают повсюду радушие и помощь, а в пленных германцах сибиряк видит хороших покупателей и людей далеко ему не бесполезных. Всюду, где возникают поселки пленных, оживляется местная торговля, увеличивается привоз на базары крестьянских товаров. Но, кроме того, среди пленных германцев, захваченных на Дальнем Востоке или здесь же, в Сибири, очень много хороших ремесленников и торговцев. Всех их отправили в глухие таежные углы вроде Киренского, Балагапского уездов Нарымского края, и всюду они принесли с собой свою энергию и свое уменье из всего извлекать пользу. В этих таежных углах появились столовые, кофейни, мелкие мастерские. Пленные врачи очень часто работают в местных лазаретах.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
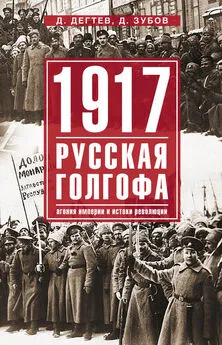
![Дмитрий Калюжный - Другая история Российской империи. От Петра до Павла [= Забытая история Российской империи. От Петра I до Павла I]](/books/141143/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-rossijskoj-imperii.webp)