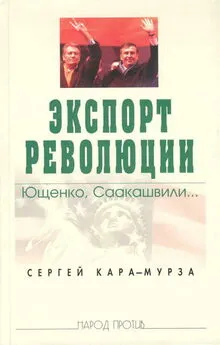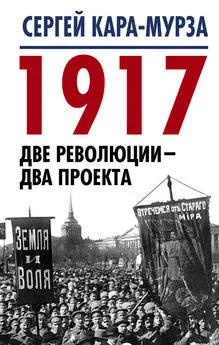Сергей Кара-Мурза - 1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта
- Название:1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Кара-Мурза - 1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта краткое содержание
1917 Февраль ↔ Октябрь. Две революции — два проекта - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Эта сторона Гражданской войны была для нас закрыта, иначе и не могло быть. После этого потрясения большинство постаралось забыть этот ужас. Реалистические рассказы и воспоминания 1920-х годов после ВОВ почти никто не читал. Артем Веселый, который после Гражданской войны собрал огромное количество воспоминаний очевидцев и малую часть из них издал в виде книги «Россия кровью умытая», почти никому не известен.
Литература и кино заместили реальные образы художественными символами, как это было и после ВОВ. В начале 1950-х годов нынешнее старшее поколение еще получали от родственников осторожные, думанные-передуманные смыслы насилия в бою, жестокости в отношении к безоружному, репрессий государства. Эти очищенные сублимированные объяснения тогда очень помогли молодежи. Мы много об этом думали. Но наши родственники и старшие друзья ушли, следующее поколение уже не владело смыслами — за ними не стоял личный опыт. Наша философия и литература не взялись перевести те смыслы на доступный рациональный и художественный языки, да и не было такого запроса. Все это хранили в памяти под замком.
Так и должно было быть, но теперь мы попали в такую паутину, что нам требуется знание, свободное от эмоций, как у разведчиков или врачей. Нам надо подойти к явлению, а не к личностям и даже не группам — хоть белых или красных, хоть ИГИЛ или «Правый сектор». Почти во всем мире накапливается потенциал потрясений и жестокости. Механизм этого сдвига если и не понять, то хотя бы надо найти приемы его притормозить или смягчить.
В 1930-х гг. разрушительные образы жестокости — и белых, и красных — были преобразованы в художественные смягченные образы. Позже натурализм, который пробивался в литературе в 1920-х гг., был совсем изъят, особенно из кино. Вспомним, например, «Тихий Дон» — этот фильм был очень важен, но он не подавлял разум картинами бесчеловечности.
Но получилось так, что во время перестройки идеологи антисоветского проекта оставили жестокость белых в забвении , а жестокость красных в Гражданской войне, государственных репрессий 1937-38 гг., советских солдат в Великой Отечественной войне и депортации ряда народностей представили не только в жанре натурализма, но и в гипертрофированных образах.
Эта программа «гласности» и «свободы информации» была разрушительной операцией против советского общества и привела (вместе с другими подобными операциями) к распаду советского народа, а потом и дезинтеграции общества постсоветской России. Все население получило тяжелую культурную травму, которая излечивается очень медленно.
Раз уж накопилась литература о проблеме жестокости в периоды глубокого кризиса, используем эти материалы, чтобы рассмотреть важное явление 1921-1922 гг. — красный бандитизм. Он красноречиво представляет сложные отношения между властью и населением, которые в нашей политологии практически не изучали и почти не упоминали.
Факты таковы. Почти полтора года, до февраля 1920 г., в Белом движении пост Верховного правителя России и Верховного Главнокомандующего Русской армией занимал адмирал Колчак. Его силы контролировали огромную территорию Сибири и Дальнего Востока. Советская власть на этой территории была ликвидирована летом 1918 г., так что институционализация Советов и других советских институтов не успела развернуться. Только что организованная Красная армия держала фронт в Поволжье и на Урале.
В Сибири было много переселенцев, прибывших во время столыпинской реформы, среди них были зажиточные крестьяне и кулаки. Советской властью многие из них были недовольны — продразверсткой, ограничением торговлей хлеба, — и в то же время они отвергали попытки возвращения прежних сословных порядков. Так возникло партизанское сопротивление армии Колчака — из разных групп крестьян, хотя основную массу составляли середники и бедняки. В городах, когда белые их занимали, ячейки большевиков и советские работники уходили в подполье, а много рабочих уходили в партизанские отряды.
Партизаны действовали и на железной дороге, создавали заторы, иногда взрывали мосты, создавая серьезные трудности Белой армии. К весне 1919 г. партизанское движение расширилось, почти на всей территории Сибири, а летом-осенью превратилось в повстанческую войну, так что сформировались крупные соединения — партизанские армии. Кроме них были десятки отрядов средней величины и сотни небольших маневренных отрядов и групп. Целые уезды освобождались партизанами от белых еще до прихода Красной армии. В освобожденных районах создавались революционные комитеты или Советы. Но эти структуры, созданные в партизанском крае в процессе самоорганизации, и такие структуры, которые в Европейской России развивались полтора-два года в лоне большого государства, были различны.
Для представления сложившейся ситуации после восстановления Советской власти в Сибири возьмем фрагменты из трудов нескольких более или менее беспристрастных авторов. Читателям придется сделать усилие, чтобы разделить факты и нравственные оценки, которые дают нынешние авторы с высоты благосостояния и демократии ХХI века.
Вот короткая формулировка: «Помимо “упорядоченного” коммунистического террора жизнь Сибири во многом определяли стихийные бессудные расправы на классовой почве, известные как “красный бандитизм”. Он отнюдь не был исключительно сибирской особенностью, поскольку отмечался повсюду в стране, но в Сибири и на Дальнем Востоке был развит особенно сильно. Криминальный характер коммунистической власти ярко отразился в этом специфическом явлении, ставшем характерной и повсеместной чертой революционного и пореволюционного быта…
Десятки тысяч партизан и демобилизованных военных, привыкших к убийствам и грабежам, потерявших родных и друзей от рук колчаковцев, привнесли в общественную жизнь разнузданную мстительность. Порой она обрушивалась не только на “гадов”, но и на представителей власти, пытавшихся сдержать бандитизм. В условиях острого дефицита партийно-советских и чекистских кадров в Сибири масса партизан в 1920-1921 гг. оказалась в РКП(б) и органах ВЧК, превратив их в явно криминализированные структуры.
Для советской историографии было очевидно, что строительство большевистских органов власти осуществляли преданные коммунистической идее бескорыстные сторонники новой жизни — передовые, политически активные рабочие, крестьяне, интеллигенты. В действительности же новая власть, особенно в наиболее удалённых регионах, оказалась в основном составленной из неприспособленных к управленческому труду малограмотных карьеристов, среди которых не редкостью были личности с уголовным прошлым, всевозможные авантюристы и проходимцы». 212
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: