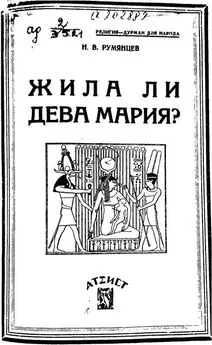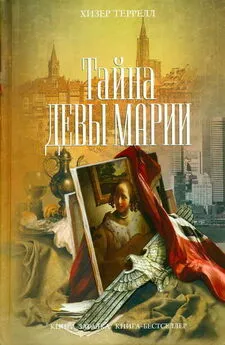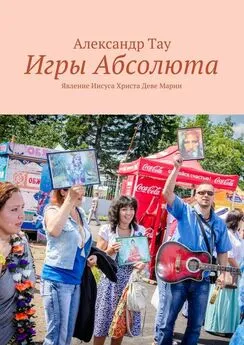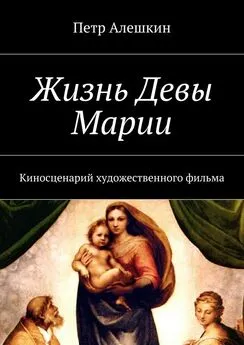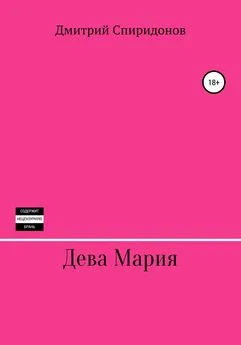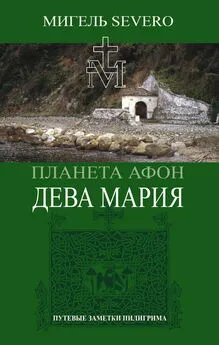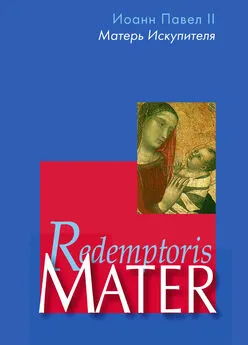Н. Румянцев - Жила ли Дева Мария?
- Название:Жила ли Дева Мария?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Атеист
- Год:1929
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Н. Румянцев - Жила ли Дева Мария? краткое содержание
В этом отношении Мария заняла место рядом со своим мнимым сыном и основоположником христианства — Иисусом, а в некоторых странах даже оттеснила его на задний план, как это мы наблюдаем в католической Италии, Испании, Польше. Данное обстоятельство — видное место культа и образа названной христианской «богородицы» — заставляет нас разобраться и посмотреть, кем же или чем она была в действительности, а также какова история и значение самого ее культа. Переходя к разбору всего этого, мы заранее оговариваемся, что не собираемся давать здесь какого-либо самостоятельного своего исследования, а ограничиваемся лишь простой коротенькой сводкой того, что уже найдено по этим вопросам различными исследователями христианства и его составных элементов.
Жила ли Дева Мария? - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В X в. он был занесен на Русь, где, придясь календарно на ответственные хозяйственные моменты, занял видное место в церковной практике и народном, сельском быту. К этому дню у нас заканчивается жатва, и крестьяне озабочиваются обеспечением себя урожая на предстоящий, новый хозяйственный год, который поэтому они некогда вместе с церковью тоже начинали с 1 сентября. С успением у нас некогда, еще недавно, было связано много различных обычаев, местами существующих и до сих пор. Так, в эпоху Руси Московской бояре— крупные помещики угощали в этот день своих крестьян по случаю уборки урожая. Тогда же и в последующие времена помещичьего строя крестьяне и крестьянки ходили на успение на «барский двор» с разукрашенным последним снопом — «имянинником» и караваем хлеба из новой муки и получали там «угощение».
Целый ряд других обычаев являлся пережитками былых жертвоприношений и магии — колдовства, чародейства. Например, еще недавно на этот праздник в некоторых наших сельских местностях молодежь обоего пола вязала последний сноп, украшала его лентами, с песнями несла на двор и в складчину устраивала пирушку, где видное место занимали пироги из новой муки. Это — пережиток былого жертвенного приношения развившимся из душ умерших духам растительности вообще, мнимому покровителю домашнего хозяйства — «дедушке домовому», в частности; а также — отзвук былого общинного пиршества по случаю окончания страдной поры и тяжелых полевых работ — жатвы, от результатов которой зависело дальнейшее крестьянское благополучие.
Существовал также другой обычай: крестьянки украшали последний сноп, обвязывали серпы соломой и с особыми приговариваниями катались по сжатому полю. Делалось это с магической целью — вернуть истощенной земле ее производительную силу. А так как для этого, помимо всего прочего, необходимы в будущем своевременные и достаточные дожди, то их старались заранее обеспечить полям при помощи другого магического обряда: возвращавшихся с полей женщин молодые парни обливали у околиц ведрами воды. Ту же самую цель — обеспечить дожди и урожай на следующий производственный год — преследуют успенские крестные ходы и молебны с водосвятиями на полях после обедни.
Посредством «водосвятия» здесь пытаются магически-колдовски гарантировать в будущем дожди, а путем остального благодарят богоматерь за ее мнимую хозяйственную помощь и вымаливают последнюю на будущее. Что касается самих сельских работ, то крестьяне считают, что пахать следует до успенья, а сеять — до и после него, а также необходимо озаботиться уже и заготовкой различных припасов на осень и зиму. Все это народ, по своему обыкновению, выразил, в ряде поговорок, как-то: «До успенья пахать — лишнюю копну нажать»; «Сей озимь за три дня до успенья и три дня после успения».
В богослужебном отношении церковь отвела успению десять дней (14–23) и постаралась придать ему торжественный характер с целым рядом особых песнопений, молитвенно-хвалебных взываний к Марии (акафист), крестными ходами на поля и т. д. Сделано было это, конечно, не спроста, а преследовались определенные цели и имелись особые причины. Во-первых, — во время урожая легче обирать крестьян. Затем, с помощью всего этого церковь на нем обрабатывала и обрабатывает темную верующую массу, превознося пред ней мнимодействительную хозяйственную помощь вымышленной богородицы и т. д.
Успением мы заканчиваем свой беглый обзор главных церковных праздников, связываемых с решающими моментами мнимоземной жизни и истории христианской богоматери и приснодевы Марии.
VIII. Заключение
После исторического разбора раннехристианских сказаний о «богоматери», представлений о ней, ее реликвий и праздников, скажем теперь несколько слов вообще о корнях и значении ее культа.
Культ этот, с одной стороны, восходит своими корнями в многобожие идей «языческой» древности. Мы видели уже, что в целом ряде стран античного мира, где зародилось и развивалось раннее христианство: в Египте, Ассиро-Вавилонии, Финикии, Фригии и Палестине, — всюду имелись более или менее развитые религиозные системы, в которых видное место принадлежало определенным женским божествам— девственным богоматерям — возлюбленным многоименного растительного «умирающего и воскресающего» спасителя. Последние отражали собой былой матриархальный уклад, были связаны с сельским хозяйством, земледелием, считались его небесными покровительницами, подательницами урожая, как и вообще всяческого благополучия и благосостояния населения.
Первоначальная еврейская религия, связанная с патриархальным укладом евреев-скотоводов, соответствующего женского божества не имела и выдвигала на первое место «бога-отца», могущественного и грозного властелина. При переселении в Ханаан и переходе здесь на земледелие, религиозная жизнь евреев подвергалась изменениям: с одной стороны, религия пастушеского Ягве впитала в себя целый ряд элементов местной, ханаанской земледельческой религии, в том числе — и культ главного женского божества последней. С другой, — культ этого божества продолжал существовать там параллельно с поклонением Ягве, рядом с ним, таясь или открыто выступая наружу в среде простого народа, крестьянства. Божество этого носило имя Марии или именовалось просто «царицей небесной».
Около начала христианской эры культ Марии, подавляемый казенным жреческим юдаизмом, ожил и процветал в еврейских гностических сектах, чтивших Иисуса — юдаизованный образ многоименного растительного «спасителя» и сливших его с образом мессии-христа. Христианство, выливаясь из гностицизма, в числе прочего, вынесло оттуда и культ богини Марии. Первоначально, пока оно ютилось только в небольших городских общинах, в условиях городской жизни, культ этот особо большой роли не играл, выпукло не выпячивался. Картина изменилась, когда христианство вышло из тесного круга тайных замкнутых общин и начало свое победное шествие по греко-римскому миру. Здесь оно, в погоне за властью, за возможно большим количеством сторонников, приверженцев, применяясь к местным социальным условиям, приспосабливало свое учение и культ к местным верованиям, обрядам, божествам или просто поглощало, воспринимало их в себя и перерабатывало.
В этом процессе распространения, приспосабливания, поглощения и переработки христианство не могло не встретиться и встретилось с крепко связанным с сельским хозяйством и прочими сторонами социальной жизни культом многоименной богини-матери. Тогда произошло неизбежное: былая юдаизованная ханаанская разновидность последней, первохристианская Мария, слилась со слитным образом той богини, поглотила целиком ее «языческий» культ и превратилась в ту христианскую «богородицу» и «приснодеву», которую мы видели в многоразличных евангелиях и позднейшей древне-христианской литературе и которая поныне чтится в таком виде миллионами верующих.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: