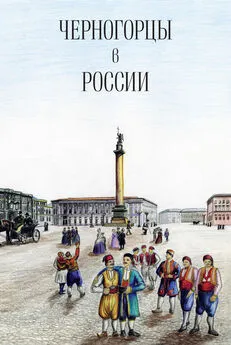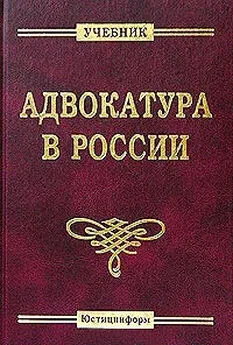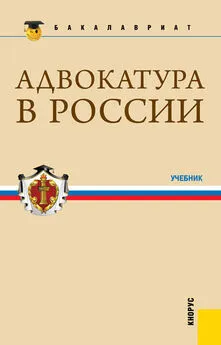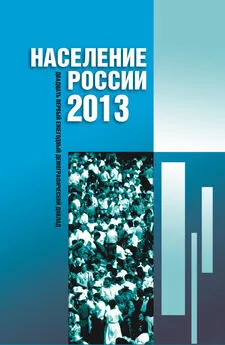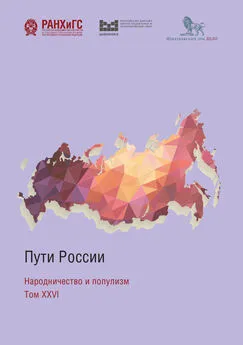Коллектив авторов - Черногорцы в России
- Название:Черногорцы в России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Индрик
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91674-156-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Черногорцы в России краткое содержание
Книга «Черногорцы в России» представляет собой сборник научных статей российских и черногорских исследователей, в которых рассматриваются практически все значимые страницы истории российско-черногорских связей за последние триста лет. Особое внимание уделяется истории черногорцев в России – представителей царственных домов, духовенства, военных и моряков, мужчин и женщин, людей выдающихся и обыкновенных.
Сборник предназначен как для специалистов-историков, так и для всех интересующихся страницами прошлого российско-черногорских отношений.
Черногорцы в России - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на рекламную фотографию, группа прибыла в Москву регулярным рейсом «Аэрофлота» почти без опозданий и довольно долго задержалась при пересечении границы, выполняя необходимые формальности. Участники предстоящего круглого стола, рассуждая о причинах столь долгой задержки при въезде в некогда закрытую страну, философствовали о том, что «в ней упорно сохраняются формы поведения, принятые при большевизме, которые, наверное, переживут и сам большевизм» 98.
После вручения протокольного букета красных гвоздик супруге Джиласа Штефании – части протокольных формальностей, предусмотренных «Литературной газетой», гости на автомобилях выехали из построенного к Олимпиаде-80 аэропорта «Шереметьево-2» (он показался им всего лишь похожим на десятки аэродромов в мире). Уже в автомобиле Джилас пожелал немедленно заехать на Красную площадь, заявив об этом столь безапелляционно, что, несмотря на январские минус девять градусов, никому и в голову не пришло напомнить, что в июне ему исполнится 79 лет. Для теплолю-бивыхжителей Балкан картина вечерней Красной площади казалась почти фантастической, созданной, как им казалось, «теми мастерами, которые десятилетиями создавали и совершенствовали огромных размеров символы сталинской эпохи». «Под ногами скрипел свежий снег, над головами снежинки, а на самых вершинах двух кремлевских башен жаркий красный свет просто струится из высоко размещенных пятиконечных звезд, – чуть позже написал Зечевич для «НИН». – Стены Кремля блестят и в то же время едва видны. Лучшую иллюстрацию для того, чтобы получить полное представление о прежних мечтах коммунистов, трудно и представить». «Эта картина, – заметил также репортер, – до определенной степени, действительно, оправдывала их юношеские увлечения идеями, которые символизировали Красная площадь и, конечно, мавзолей Ленина» 99.
Помимо репортерских заметок для еженедельника «НИН», свои впечатления о том вечере по свежим следам записал и Чосич, некогда подчиненный Джиласа по идеологической работе в послевоенной Югославии, к тому времени уже известный писатель-диссидент, а в самом недалеком будущем – крупный югославский государственный деятель 10°. Запомнившаяся ему в тот вечер метель придала событию еще больший колорит. «Как только мы вступили на освещенную светом прожекторов Красную площадь, Милован Джилас замедлил шаг и замолчал. Я понял, что он хочет остаться только со своей Штефицей. Мы так и сделали, двинулись к храму Святого Василия Блаженного, оставив их перед мавзолеем Ленина, – записал Чосич. – Вид заслуживал того, чтобы его запомнить. Запорошенный снегом Милован в кепи, сгорбленный, ссохшийся со своей Штефанией, темнел перед мавзолеем Ленина… Перед своим некогда богом, бальзамированным Лениным, заложенным в красном мраморе. Молчит веривший в него отступник и противник. О чем он думал, некогда коммунистический фанатик и партийный вождь, который по-ленински за счастливое будущее человечества выносил смертные приговоры своим противникам и тем, кто всего лишь сомневался в победе? О чем молчал самый знаменитый отступник коммунизма второй половины XX столетия, самый значительный низвергатель ленинизма и большевизма? Спрашивал ли себя Милован Джилас, на что он растратил юность и дар писателя и за что провел в тюрьме девять лет, не считая и тех лет в Королевстве? Может быть, он каялся в том, что разрушал великую веру нашего столетия?» 102.
Лишь на следующий день, словно прерывая то молчание перед мавзолеем Ленина, Джилас сказал только одну фразу: «Ленин – гений революции». «Я с ним согласился», – заметил Чосич 103.
Редакция «Литературной газеты», подбирая партнеров для представительной югославской делегации, так и не сумела найти равную Джиласу советскую фигуру. Л. М. Каганович, один из тех в советской политической верхушке, кто травил югославское руководство в те годы, «не был ни готов, ни способен для встречи». О Д. Т. Шепилове, дожившем до 1995 г., кажется, никто и не вспомнил. Советскую часть участников круглого стола составили ученые-обществоведы (политологи Института экономики мировой социалистической системы АН СССР Е. А. Амбарцумов, М. П. Павлова-Сильванская и др.) 104и ведущие отечественные историки-югослависты из Института славяноведения и балканистики АН СССР (его директор В. К. Волков и Л. Я. Гибианский) 105.
18 января 1990 г. в помещении редакции «Литературной газеты» был проведен круглый стол о советско-югославском конфликте 1948 г. Выступление М. Джиласа (после краткого вводного слова организатора – заместителя редактора «ЛГ» О. Н. Прудкова) стало событием, затмившим в тот день все. Как справедливо заметил в своем репортаже Зечевич, «в отличие от остальных, которые интерпретировали события, Джилас о них свидетельствовал» 106.
С этой оценкой солидаризировался и Чосич, отметив, что Джилас, «разумеется, был главной личностью той конференции. Он, хотя не высказал новые и неизвестные факты, его свидетельства и взгляды о событиях 1948 г. интересны и как всегда важны. Этот человек обладает выраженным даром политического мышления и авторитетной самоуверенностью, приобретенной на высоких должностях в коммунистическом движении» 107. «На конференции, – заметил Чосич, – выступило трое из нас, приехавших вместе с Джиласом. Несмотря на то, что наши выступления были теоретически и историографически интересны, они остались в тени его личности» 108.
Начав с того, что в письмах Молотова и Сталина, направлявшихся весной 1948 г. в адрес югославских руководителей, чувствовались опасения Сталина, что Югославия желает занять приоритетное положение в отношении Советского Союза и всего мирового коммунистического движения, Джилас заверил собравшихся, что такой идеи югославское руководство не имело. «Несмотря на наш революционный энтузиазм и нашу революцию, из которой югославы вышли полные революционного энтузиазма и, конечно, революционных иллюзий, переоценивая свои силы и возможности… мы понимали, что у нас нет сил и возможностей вытеснить или заменить Советский Союз».
Он также описал настроения югославской коммунистической элиты в отношении Советского Союза, появившиеся с тех пор, как после войны начали проявляться различия во взглядах на экономические отношения. «Мы в Югославии, – заметил Джилас, – переоценивали возможности Советского Союза, который понес во время войны огромный урон. Наши ожидания помощи, которую Советский Союз мог нам предоставить, были завышены. И мы часто выдвигали требования, которые он объективно не мог выполнить. Были и стремления сталинского правительства ввести несправедливые экономические отношения с социалистическими странами и Югославией. По этой причине, из-за серьезных экономических причин, в югославском руководстве имелось внутреннее сопротивление советскому руководству, а частично и Советскому Союзу. «Это сопротивление можно было назвать и небольшой критикой: вот, русские хотят это, Советы хотят то, а у них ничего не получается», – вспоминал он.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: