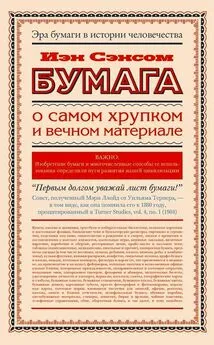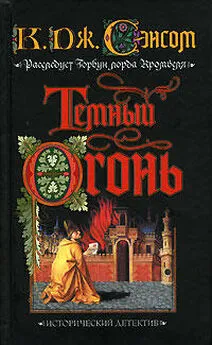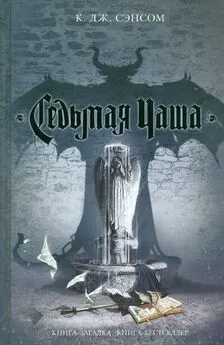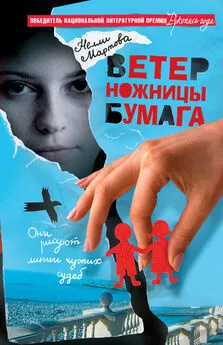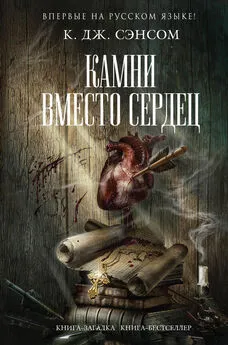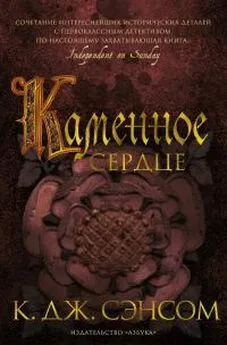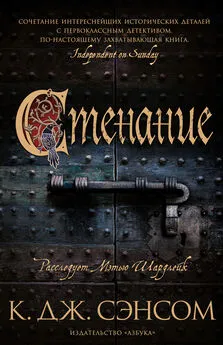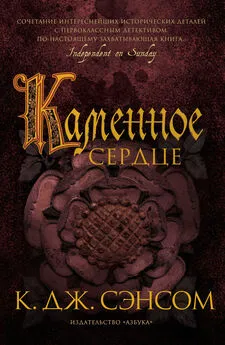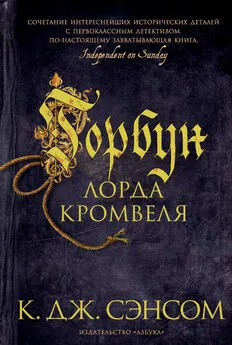Иэн Сэнсом - Бумага. О самом хрупком и вечном материале
- Название:Бумага. О самом хрупком и вечном материале
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ, CORPUS
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-089173-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иэн Сэнсом - Бумага. О самом хрупком и вечном материале краткое содержание
Бумага. О самом хрупком и вечном материале - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Следующим его употребляет в 1750 году лорд Честерфилд, когда предостерегает сына: “Берегись библиомании”. Однако в широкое употребление это слово вошло только после того, как в 1809 году преподобный Фрогналл Дибдин выпустил в свет книгу, называвшуюся
“Библиомания, или иначе Книго-бесие; с изложением действительных случаев, а также описанием симптомов и способов излечения сей убийственной хвори”. Библиомания, по мнению Дибдина, выраженному характерным его причудливо-диковатым языком, заключается в страстном стремлении обладать первоизданиями, неразрезанными экземплярами, богато иллюстрированными изданиями и вообще “всеохватной охотой до печатных страниц”. Заражение болезнью, по заключению автора, происходит посредством бумаги.
Да, разумеется, книги возникли очень задолго до изобретения бумаги. Любой школьник расскажет вам, что первые несколько тысячелетий или около того “книги” существовали в виде глиняных табличек, папирусных свитков и т. п. Три главных элемента книги, такой, какой мы ее знаем сейчас, — это краска, наборный шрифт и бумага. Они объединились в результате эпохального технологического прорыва, когда в середине XV века Иоганн Гутенберг изобрел печатный пресс с подвижными литерами. Тут-то и родилась книга, которая вскоре завоевала мир. В фундаментальном труде “Книга: жизнеописание технологии” ( The Book: The Life Story of a Technology, 2005) историк Николь Ховард так описывает манипуляции с бумагой при печатании по изобретенному Гутенбергом методу:
“Подготовив все для работы, печатник просил доставить ему со склада необходимое количество бумаги. Ее доставляли стопками по 250 листов. Вечером накануне, когда было уже приблизительно понятно, сколько потребуется бумаги, листы замачивали в воде и укладывали один на другой. Под собственной тяжестью они отдавали за ночь бóльшую часть воды и оставались к утру лишь едва влажными. На такую бумагу краска ложилась гораздо лучше и ровнее, чем на совершенно сухую. Каждый лист по отдельности расстилали на декеле, сверху укладывали рашкет, укрывающий его поля, и затем все это вместе укладывали под тигель. Поворотом винта печатник прижимал к бумаге печатную форму, на которую специальными подушечками из кожи была нанесена краска. Листы бумаги с готовым оттиском вынимали из пресса и развешивали для просушки под крышей мастерской”.
И — вуаля! — добро пожаловать в современный мир! На книги, отпечатанные по этому принципу, историки любят возлагать ответственность за все на свете — будь то научная революция, протестантская Реформация, падение ancien régime [18] Старого режима (фр.).
во Франции, расцвет капитализма или крах коммунистической системы. Книги, как нам хорошо известно, служат разносчиками идей, пробуждают в людях сильные чувства, приводят к власти и свергают правителей, предлагают уход от жизни и трезвый взгляд на нее, питают в ком-то алчность, в ком-то ненависть, учат любви к ближним, эгоизму, указывают пути самосовершенствования. Словом, книги, детища истории, эту самую историю вершат. Бумажные, напомню, книги.
Со времен Гутенберга книга неразрывно связана у нас в сознании с бумагой, одна практически немыслима без другой — они образовали прекрасное сочетание, их связал прямо-таки идеальный союз. Даже сейчас, несмотря на мимолетное, ни к чему не обязывающее увлечение свежей темпераментной гипертекстуальностью, вскружившей было нам головы в последнее десятилетие прошлого века, электронные книги и приспособления для их чтения стремятся во всех отношениях — формой, форматом, функциональностью — как можно ближе уподобиться своему бумажному прообразу. И пускай пророки и гонители новых технологий в один голос твердят, будто электронные книги предельно и принципиально не похожи на книги бумажные, — на самом деле различия между ними минимальны. Как только появятся электронные книжки с тем самым запахом, они и вовсе сойдут на нет.
Бумажная книга, по сути своей, всего лишь носитель информации, она настолько прочно ассоциируется с информацией, которую несет, что мы с большим трудом готовы признать полноценной книгой что-либо, отличное от книги бумажной. Одна молодая писательница недавно рассказывала мне, что недовольна договором на электронное издание ее романа, который заключил ее агент — дескать, в договоре этом “все не так, как бывает с настоящей книгой”. (Говоря “все”, девушка несколько преувеличила: аванс был таким же жалким, каким бывает при бумажном издании, авторские отчисления — такими же смехотворными, обязательства издателя по рекламе и распространению — такими же призрачными, а вознаграждение агенту — таким же щедрым; после этого неудивительно, что многие авторы предпочитают самостоятельно выставлять свои произведения на продажу для “киндла”.)
Коль скоро бумажная книга стала воплощением знания, стоит ли удивляться, что обладание книгами практически приравнивается к обладанию этим самым знанием. В одной из своих искрометных газетных колонок Фланн О'Брайен рисует целый спектр услуг, которые мог бы оказывать воображаемый специалист-книжник: “Предложение класса «экстра»: все тома нещадно замусолены, корешки изданий небольшого формата измордованы ровно настолько, чтобы было понятно — их подолгу таскали в кармане; в каждом экземпляре несколько абзацев подчеркнуты красным карандашом и отмечены восклицательным либо вопросительным знаком на полях; во все тома в качестве позабытых закладок вложены подлинные старые программки «Гейт-тиэтр»”.
Пассаж смешной, потому что правдивый. Ибо нигде недуг тщеславия не заявляет о себе громче, чем в мире книг и книговладельцев. Нигде больше бумажная болезнь не собирает столь богатой жатвы. Книги — самое откровенное и громкое заявление бумаги о своей значимости и власти. Подобно далеким предкам, мы снова стали верить в силу талисманов и оберегов — книги превратились у нас в богов-хранителей домашнего очага. Вопреки преобладающему мнению, историк литературы Джеймс Кери высказал мысль, что “изобретение книгопечатания — это венец развития средневековой культуры… скорее залог ее преемственности в веках, чем финальная точка”. Если так оно и есть, значит, и сейчас у нас на дворе Средневековье.
Вполне возможно, что я преувеличиваю. В конце концов писателей бумага поработила безвозвратнее, чем всех прочих. С младых ногтей писатель проникается очарованием тех и этих присущих книге милых черт — от зазывных обложек до многозначительно загнутых уголков страниц. Доходит до того порой, что некоторые из нас начинают мыслить себя более книгой, нежели человеком.
“Мои кости — коленкор и картон, моя пергаментная плоть пахнет клеем и грибами… Меня берут, меня открывают, меня кладут на стол, меня поглаживают ладонью и иногда разгибают так, что раздается хруст… От меня нельзя отмахнуться, меня нельзя обойти молчанием, я великий кумир, портативный и грозный” [19] Перевод Л. Зониной.
.
Интервал:
Закладка: