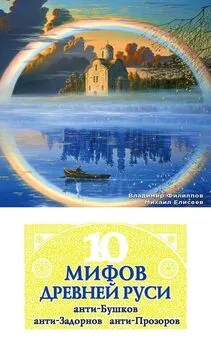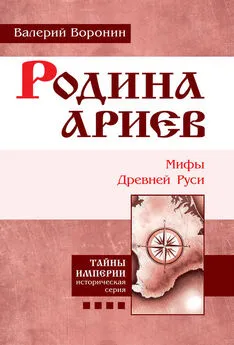Владимир Филиппов - 10 мифов Древней Руси. Анти-Бушков, анти-Задорнов, анти-Прозоров
- Название:10 мифов Древней Руси. Анти-Бушков, анти-Задорнов, анти-Прозоров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Яуза, Эксмо
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-699-70985-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Филиппов - 10 мифов Древней Руси. Анти-Бушков, анти-Задорнов, анти-Прозоров краткое содержание
Сколько тысячелетий насчитывает русская история и есть ли основания сомневаться в существовании князя Рюрика? Стало ли Крещение Руси трагедией для нашего народа? Была ли Хазария Империей Зла и что ее погубило? Кто навел Батыя на Русскую Землю и зачем пытаются отменить татаро-монгольское Иго?
Эта книга разоблачает самые «сенсационные» и навязчивые мифы о Древней Руси – от легендарного князя Руса до Дмитрия Донского, от гибели Игоря и Святослава до Мамаева побоища.
10 мифов Древней Руси. Анти-Бушков, анти-Задорнов, анти-Прозоров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Всё понятно и логично, всё объяснимо и никаких тайн.
Но Прозоров не был бы Озаром, если бы и здесь не обнаружил влияние язычества на судьбу Московского князя. Вот как это он преподнёс читателям: «Но те, кто сражались рядом с ним, подданные литовских и белозерских князей, может быть, обратили внимание на иное – израненного, упавшего князя прикрыла ветвями упавшая, срубленная в жестокой сече береза – одно из священных деревьев языческой Руси».
ЧУДО! – вопит Лев Рудольфович, – ЧУДО! Князя под берёзой нашли! Слава язычеству!
Совершенно непонятны восторги писателя. Ладно бы нашли Дмитрия Ивановича под пальмой, тогда мы вместе с литератором огласили бы воздух восхищёнными криками. А так…
Давайте начнём вот с чего. С культуры.
Ответственно хотим заявить, что русская народная песня «Во поле берёза стояла, во поле кудрявая стояла» и так далее, со всеми вытекающими отсюда куплетами, никоим образом не является гимном язычества. Мало того, хотим обратить внимание, что те, кто исполняют данную песню, вовсе не обязательно должны быть приверженцами Старых Богов.
Не в обиду этим самым Богам будет это сказано.
От культуры перейдём к ботанике.
Вообще-то берёза – одно из самых распространённых деревьев в средней полосе России, а потому ничего удивительного в том, что раненого князя нашли именно под ней, нет. Даже автор «Сказания о Мамаевом побоище», про которого Прозоров написал, что «благо с фантазией у него было все в порядке», ничего чудесного в этом не нашёл, а просто констатировал сам факт: «Два же каких-то воина отклонились на правую сторону в дубраву, один именем Федор Сабур, а другой Григорий Холопищев, оба родом костромичи. Чуть отъехали от места битвы и нашли великого князя, избитого и израненного и утомленного, когда лежал он в тени срубленного дерева березового».
Всё! И более никаких чудес. Хватит. Чудеса тем и хороши, что случаются не так уж часто. А когда одно за другим, то это уже не чудеса, это уже фокусы.
Но Прозоров не сдаётся, он спешит нас порадовать другим перлом, который касается ещё одного героя Куликовской битвы – Дмитрия Михайловича Боброка-Волынского. Понятно, что раз Боброк занимался гаданием в канун битвы, значит, он, по мнению Прозорова, двоеверец и уже только поэтому удостаивается симпатий сурового неоязычника – «воевода-литвин, ни много ни мало, ворожит князю, ещё не прозванному Донским, о будущей победе по волчьему вою, заре и «голосу земли». Желание везде выискивать языческую составляющую частенько играет со Львом Рудольфовичем злую шутку – будь Боброк двоеверцем или язычником, то никогда бы не получил в жёны сестру Дмитрия Донского и не вошёл в великокняжескую семью – к таким вещам относились очень строго.
Но Прозоров продолжает развивать тему: «Так вот, именно он, этот литовский ведун-двоеверец, в тот момент, когда дрогнули и побежали под натиском Мамаевых полчищ православные москвичи, спас битву, спас Русь, вылетев с засадным полком из дубравы, где хоронился до времени.
Боброк, кстати, потом вернётся на родину и погибнет, сражаясь с татарами на Ворскле, под родными литовскими знамёнами, за князя Витовта, ещё не крестившего своих подданных».
Насчёт того, что именно удар Засадного полка под командованием храброго воеводы решил исход Куликовской битвы, сомнений быть не может. А вот утверждение о дальнейшей судьбе Боброка, мягко говоря, вызывает определённые сомнения.
Дело в том, что оснований всё бросать при московском дворе и вновь уезжать в Литву у Боброка не было никаких – положение родственника правящей династии было достаточно прочным, недаром его имя значится первым среди тех, кто подписал духовную грамоту Дмитрия Донского. Зато в Литве, где всё было зыбко и неустойчиво, где грызлись за власть сыновья Ольгерда и где Ягайло периодически вёл борьбу против двоюродного брата Витовта, ему явно было делать нечего. Вряд ли прославленный воевода мог получить там больше, чем имел в Москве, не затем он приехал на Русь, чтобы потом бежать обратно. Хотя нездоровая любовь Прозорова к исконным врагам Руси литовцам вполне объяснима – как же, ведь язычников среди них было достаточно! И плевать литератору, что большая часть населения Великого княжества были православными русскими людьми, которые не по своей воле оказались под властью выходцев из Жмуди. Именно здесь сказались все последствия нашествия Батыя, в противном случае дружины русских князей просто загнали бы обратно в свои болота не в меру активных языческих соседей. И не было бы никакого Великого княжества Литовского к немалой радости грядущих поколений русских людей.
Что же касается Дмитрия Михайловича Боброка, то по реконструкции академика В.Л. Янина, воевода и его жена ушли из мирской жизни и приняли постриг. А.В. Кузьмин, используя данные Ростовского синодика, где упоминается князь Дионисий Волынский, предположил, что это и есть Боброк, который скончался до 1411 года.
По мнению Янина, причиной ухода Дмитрия Михайловича и его жены в монастырь явилось то, что сын воеводы, приходившийся племянником Дмитрию Донскому, в возрасте 15 лет упал с коня и погиб – сведения об этой трагедии сообщает родословец Волынских.
Ну а версию о том, что Боброк погиб в битве на реке Ворксле 12 августа 1399 года, высказал Г.В. Вернадский, причём лишь на основании того, что среди участников битвы названы князья Дмитрий и Лев Кориатовичи. Вернадский просто взял да и отождествил Дмитрия Кориатовича и Дмитрия Михайловича, не имея к этому никаких документальных свидетельств. Но Льву Рудольфовичу данная версия легла на душу, поскольку, во-первых, «литовский ведун-двоеверец» здесь никаким образом не связан с ненавистным Льву Рудольфовичу монашеством, а во-вторых, сражается и погибает под знамёнами столь милых его сердцу литовских язычников.
Впрочем, Прозоров как всегда предсказуем.
И в заключение хотелось бы отметить тот факт, что победа на Куликовом поле спасла Русь от нашествия, самого страшного со времён Батыя. То, что не удалось сделать Владимиро-Суздальскому князю Юрию Всеволодовичу в 1237 году, удалось сделать Дмитрию Донскому в 1380. А потому вполне понятны тщетные потуги Льва Рудольфовича хоть как-то примазаться к этой величайшей победе русского оружия, которая произошла под стягами Руси Христианской, а не Языческой.
Да и имя своё прославить новыми глобальными открытиями в теме Куликовской битвы Прозорову очень хотелось, а в итоге мы получили тот абсурд, которым поделился с читателями писатель. В погоне за сиюминутной славой Лев Рудольфович вновь показал себя не с самой лучшей стороны, а потому можно сделать вывод о том, что делая сенсационные открытия, писатель способствует победе Кривды над Правдой. А победу на Куликовом поле добывали не язычники и христиане, а русские люди, вышедшие на битву против Орды.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: