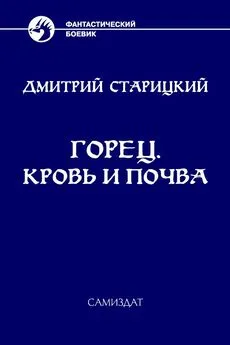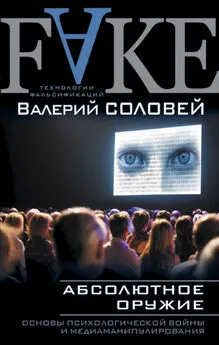Валерий Соловей - Кровь и почва русской истории
- Название:Кровь и почва русской истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Соловей - Кровь и почва русской истории краткое содержание
Кровь и почва русской истории - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В моей интерпретации качественная специфика этнических конфликтов состоит в том, что их участниками выступают не социальные, политические или культурные агенты, а сущностно биологические группы человеческих существ. Но сам конфликт разворачивается в мире социальности и культуры, где находятся цели его участников.
Эта экстравагантная гипотеза чревата обвинениями как минимум, в натурализации различий, если не в расизме. Однако подобный гипотетический упрек проигнорировал бы важную, в некотором смысле решающую, роль биологии не только в научном дискурсе и риторике империалистической эпохи, но и в политике, включая современную. «…для современных обществ, с тех пор как они перешагнули биологический порог современности, в их политических стратегиях речь идет о выживании самого вида. Эти стратегии, от регулирования задачи жизнеобеспечения вплоть до борьбы за колониальные ресурсы или, например, за “жизненное пространство на Востоке”, не только руководствуются гегемонистскими и обладающими властью над действительностью образами тела, которые относятся к важнейшим культурным параметрам Нового времени, - они сами занимают центральное место в так называемой “большой” истории»[377].
В свете этой мысли напряжение и конфликты между принимающим и иммигрантским населением оказываются борьбой за власть в принимающих обществах, где основанием и источником властных претензий выступает этничность как биосоциальная сущность. Подчеркиваю: речь идет не просто о борьбе против дискриминации, требованиях повышения статуса и равноправного доступа к социальным ресурсам – экономическим, политическим или культурно-символическим. Это именно схватка за власть - власть, понимаемую в широком смысле: как возможность определять социальное пространство других. В данном случае это другие в прямом смысле слова. Требования разрешить ношение хиджаба в школах и госучреждениях, ограничить свободу слова в пользу ислама, предоставить преференции в трудовых практиках по этническому признаку и т.д. суть стремление переформатировать социокультурную матрицу современного Запада, изменить его цивилизационную идентичность.
Это радикально отличает конфликт между автохтонными европейцами и иммигрантами от этнических конфликтов внутри Европы. Националистические, сепаратистские и сецессионистские движения европейских народов, в общем, остаются в рамках базового европейского ценностно-культурного консенсуса, в то время как иммигрантский активизм, не выдвигая формально политических требований, решительно пересматривает этот консенсус. Судя по введенному ЕС «запрету на слова» (на употребление терминов «исламский терроризм», «джихад» и т.п.) и ревизии европейского культурного наследия (например, из «Божественной комедии» Данте предполагается изъять сцену, где «лжепропророк» Мухаммед помещен в один из кругов ада), иммигранты постепенно выигрывают битву за дискурс.
Кризис западных стратегий
Может ли западная цивилизация остаться сама собой, сохранить сильные и притягательные стороны, изменившись столь радикально в этническом и социокультурном отношениях? По мнению одних, альтернативы «взаимному культурному оплодотворению» не существует, создаваемое в Европе расовое общество-гибрид окажется в конечном счете успешным. Другие, в том числе автор этих строк, придерживаются мнения, что подобное движение приведет к разрушению европейского цивилизационного кода и драматическому ослаблению Европы, не создав взамен дееспособной и эффективной альтернативы. То же самое можно сказать и о перспективе Соединенных Штатов.
Самое парадоксальное, что в рамках западных обществ растущие властные притязания иммигрантских групп не только не встречают препятствий, но, наоборот, поощряются и легитимируются. Идеология и политика мультикультурализма де-факто институционализирует этничность, выступающую под псевдонимами «культурной», «религиозной», «языковой» и «жизненно-стилевой» идентичностей. Мультикультурализм легитимирует амбиции иммигрантов, основывающих «свои политические притязания на культурной (в данном случае культура парафраз этничности. – В.С. ) особости их членов»[378].
Правда, в последнее время множится число критиков мультикультурализма не только с правых, консервативных, националистических, но и с рафинированно либеральных позиций. Основную аргументацию последних можно вкратце передать следующим образом. Мультикультуралистская политика поощрения и институционализации групповой идентичности противоречит таким основополагающим принципам либеральной демократии, как равенство гражданских прав и приоритет суверенитета личности. Ведь группа оказывается приоритетной по отношению к индивиду, который обладает достоинствами и правами не сам по себе, а лишь принадлежа к группе. Такая политика, по мнению либеральных критиков мультикультурализма, ведет к самоизоляции мигрантов в этнических гетто, блокирует их интеграцию в гражданское общество[379].
Сторонники мультикультурализма настаивают, что, пусть и в отдаленном будущем, он оставляет возможность полноценной социальной интеграции иммигрантов[380]. И хотя подобную надежду трудно назвать убедительной в свете сегодняшнего дня, в западном контексте, вероятно, не существует реалистической альтернативы мультикультурализму. Этот стратегический выбор носил во многом вынужденный характер, будучи продиктован изменившимися условиями существования западного общества: радикальным сдвигом этнодемографического баланса и провалом ассимиляторской политики.
В последнем отношении очень характерен пример Франции, где принадлежность к «французской нации» означала не только политическое, но и культурное членство в ней, стимулируя политику культурной гомогенизации. «Приверженность “республиканизму” долгое время заставляла французскую бюрократию тратить колоссальные средства на программы “интеграции” (т.е. ассимиляции) мигрантов, включая выходцев из Северной Африки и бывших колоний в Юго-Восточной Азии. Например, препятствовать компактному расселению мигрантов. Запрещать образование общественных организаций по этническому признаку (запрет был отменен лишь в 1981 г.). Квинтэссенцией ассимиляторской стратегии по отношению к мигрантам стала дискуссия о головных платках, разгоревшаяся в 1989-1990 гг.»[381].
Оказалось, однако, что политическая интеграция (а во Франции долго действовал принцип «права почвы»: родившиеся на территории страны автоматически становились ее гражданами), аккультурация, адаптация к демократическим процедурам и институтам не гарантируют лояльности иммигрантов в отношении базовых принципов французского общества. Можно считать французский язык родным, не ходить в мечеть, являться гражданином Франции и в то же время быть нелояльным по отношению к ней и даже бросать ей вызов. Причем группу, от которой этот вызов исходит, нельзя подавить или нейтрализовать в силу высокой демографической динамики и растущих политических притязаний, основывающихся именно на этнической/расовой отличительности. Принципиальная невозможность ассимиляции значительных по численности групп иммигрантов подорвала основополагающую французскую идею культурно гомогенной нации. Происходящий последние два десятка лет отход от жесткого республиканизма служит косвенным признанием правоты французских националистов, утверждающих: во Франции живут не только французы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:



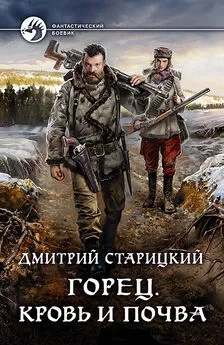
![Дмитрий Старицкий - Кровь и почва [СИ]](/books/1087136/dmitrij-starickij-krov-i-pochva-si.webp)