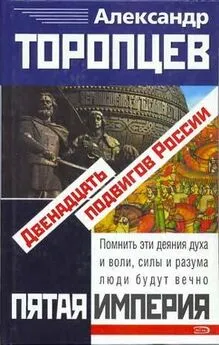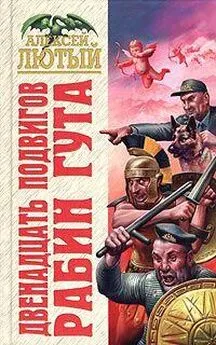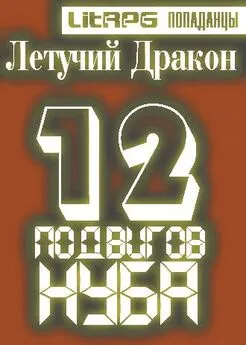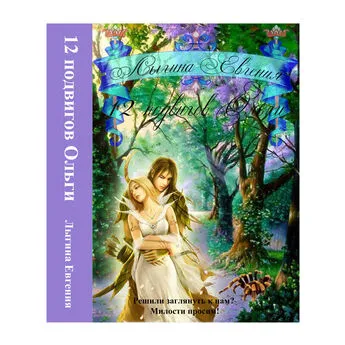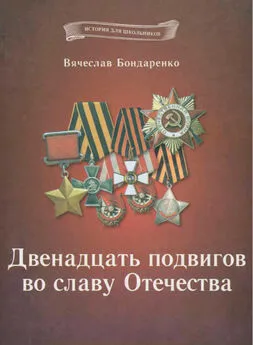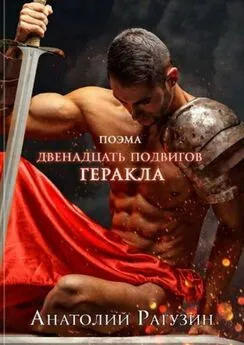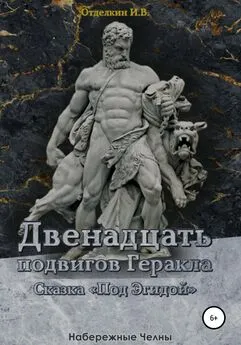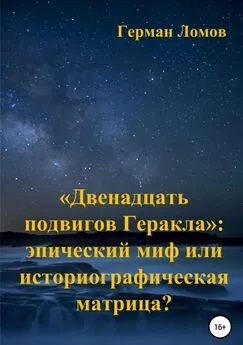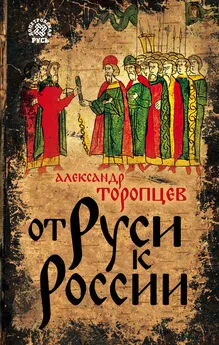Александр Торопцев - Двенадцать подвигов России
- Название:Двенадцать подвигов России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Яуза, Эксмо
- Год:2008
- Город:М.
- ISBN:978-5-699-25320-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Торопцев - Двенадцать подвигов России краткое содержание
Всё это — враньё!
На самом деле Россия — едва ли не самый успешный проект в мировой истории. Нам есть чем гордиться. Нам есть о чём помнить. История России — это история величайших военных, государственных и духовных подвигов. Наши предки построили не просто государство — целую цивилизацию. Наша страна неизменно поднималась после всех поражений и катастроф, всегда восставала, как Феникс, из пепла. Восстанет и теперь.
Грядёт новая, Пятая Империя! У России впереди новые подвиги!
Двенадцать подвигов России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Это хорошо, что до наших дней дошли законы Хаммурапи и законы хеттов, Синайское законодательство и законы Ману… Законы — путеводители не только для тех, кому они адресованы, своего рода правила движения жизни, запрещающие знаки, но и богатейшая информация для размышлений. Почему в Соборном Уложении 1649 года дана эта статья? Потому что все, что в ней запрещалось, имело место на практике. А подобная практика материально усиливала церковь. Поэтому бояре и царь решили секвестировать доходы своего политического (очень серьезного!) оппонента. А значит, утверждение М. Н. Никольского о церкви в XVII веке, мягко говоря, несостоятельно. Если бы церковь являлась по своему статусу одним из московских приказов, то хватило бы двух-трех словесных или письменных повелений монарха, чтобы урезать и материальное положение этого «приказа», и его влияние на жизнь страны, а то и просто ликвидировать этот «приказ» за ненадобностью. Но церковь приказом не была и быть не могла! Она являлась одной из трех ветвей власти. Она мечтала о большем. Эти мечты имели под собой мощное основание, реальную опору. Именно поэтому в Соборном Уложении 1649 года вышли статьи, конечной целью которых было размывание этой опоры.
Приведённая статья Соборного Уложения говорит еще и о том, как мудро относились русские законодатели к двум основным богатствам страны: к земле и к народу. Деньги церковь могла собирать с населения. Но ей строжайше запрещалось собирать землии людей, обрабатывающих землю. В этом законе, кроме всего прочего, было установлено «в качестве общей меры для всех клириков, не только монастырских, но и всех прочих, одинаковую подсудность со всеми остальными людьми по всем недуховным делам» (там же, стр. 116), что, естественно, уменьшило доходы церкви. Более того, в 1650 году был создан Монастырский приказ, составленный из светских людей.
Никон отнёсся к Соборному Уложению отрицательно, назвав его «бесовским».
В 1649 году он в Новгороде помогал нищим одолеть голод, выделил в митрополичьем дворе отдельное помещение, где ежедневно кормили обездоленных, а один блаженный выдавал кроме этого нищим по куску хлеба. В воскресные дни он от имени митрополита выдавал каждому нищему деньги.
Слава о Никоне-нищелюбце разошлась по Новгородской земле. Люди были благодарны ему. И не было среди нищих у Никона врагов. Память нищих не только крепкая и прочная во времени, она имеет чудесное свойство пронизывать невидимыми нитями всех людей — богатых и бедных. И удивительного в этом ничего нет. От сумы и тюрьмы не зарекались во все времена и во всех странах мира. И на Руси тоже. В глубинах душ людских таился и таится, и не исчезнет этот подспудный страх: не тюрьмы бы, да не сумы бы — а все остальное притерпится, сможется, выдюжится. Никон искренно помогал нищим. О славе он в тот год не думал, но слава его уже родилась и не почувствовать её он не мог.
Узнав о Соборном Уложении 1649 года, Никон сделал первый серьёзный политический шаг, назвав по сути выдающийся документ «бесовским». Друг царя не мог так называть дело, в котором Алексей Михайлович принимал активное участие. Монарх, однако, внешне не отреагировал на «грубость» митрополита.
Уже в тот год в Новгороде, да и в Москве у Никона появились серьезные враги: потомственные, связанные местническими обычаями бояре, которым не нравилось возвышение кожеозерского монаха, его тяга заниматься, помимо церковных, делами мирскими, давать царю советы. Власть не знает границ. Она стремится к бесконечности, не желая понимать, что возможности человека, которого она влюбляет в себя, весьма ограничены.
Уже в Новгороде стало ясно, что Никона не любят подчиненные. Слишком строг был митрополит. Нищих-то привечал, и они, благодарные, разносили по Русскому государству вести добрые о нём. Вести нищих. Подчиненных не миловал, заставляя исполнять богослужение со всей строгостью. У него были замечательные певчие, он возил их в Москву, к Алексею Михайловичу, и слезы умиления согревали душу царя.
В 1650 году в Новгороде взбунтовался люд. Такое часто случалось в этом краю и раньше. По-разному гасились взрывы недовольства. Никон, слишком уверенный в себе, наложил проклятие на всех горожан, проявив полную политическую беспощадность. Ни один бунт, ни одно, даже самое массовое, восстание не втягивает в свои водовороты народ, но лишь часть его. Это Никону нужно было учитывать. Он учитывал только желание своего искреннего разума, холодного, упрямого. Узнав о незаслуженном проклятии, взбунтовался весь город.
Бунтовщики избрали себе в главари некоего Жеглова, которого Никон отправил из своих приказных людей в опалу. Новгородцы наотрез отказали в доверии царскому любимцу.
В Москву прибыли письма от противоборствующих сторон. Бунтовщики обвиняли Никона в жестокости, мздоимстве, пытках. Тот писал о том, что мятежники избили его, он харкает кровью, лежит и в ожидании смерти даже соборовался. Царь принял сторону митрополита. Бунт не затихал. И, наконец, Никон, получив великолепный политический урок, посоветовал Алексею Михайловичу простить новгородцев.
Бой с жителями великого города Никон проиграл, но это обстоятельство не повлияло на отношение всего русского народа к нищелюбивому митрополиту. И авторитет его в глазах царя продолжал расти.
В 1651 году Никон посоветовал монарху перенести мощи митрополита Филиппа из Соловецкого монастыря в столицу. Это дело могло внушить народу «мысль о первенстве церкви и о правоте ее, а вместе с тем обличить неправду светской власти, произвольно посягнувшую на власть церковную». Царь не испугался этого, Никон отправился в Соловецкий монастырь.
В это время в Москве скончался патриарх Иосиф. Алексей Михайлович попросил своего друга возглавить патриаршую кафедру. Тот долго отказывался. Царь в Успенском соборе при народе низко кланялся Никону, умолял со слезами принять патриарший сан. Никон был строг. Он уже поверил в правдивость предсказания сельского гадателя в далеком детстве. Он хотел стать «российским царем». Алексей Михайлович лил горькие слезы, просил его.
«Будут ли меня почитать как архипастыря и отца верховнейшего и дадут ли мне устроить церковь?» — грозно спросил молодого царя пожилой митрополит.
Все в Успенском соборе низко поклонились ему: все-то мы сделаем, как ты хочешь, только не откажи, друг царя добрый, стань патриархом! Никон совершил грубейшую, неисправляемую временем ошибку: он вынудил самодержца прилюдно лить слёзы и унижаться перед ним. Цари не прощают тех, кто вынуждает их унижаться перед ними.
Никон строго смотрел на людей. Царь, бояре, духовенство дали клятву. Он поверил в нее, в ее искренность и непорочность, запамятовав о том, как мало на Руси было выполненных клятв. 25 июля 1652 года Никон стал патриархом всея Руси.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: