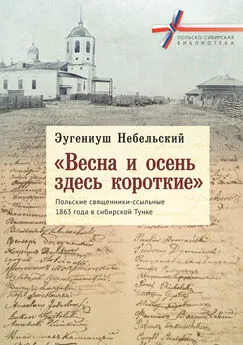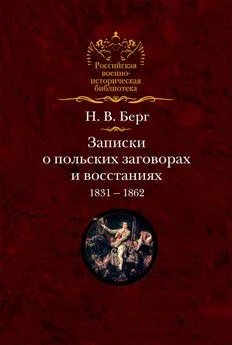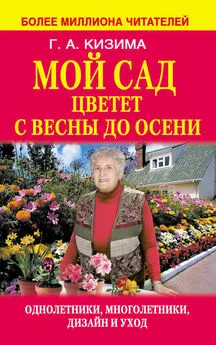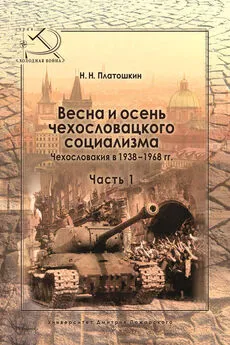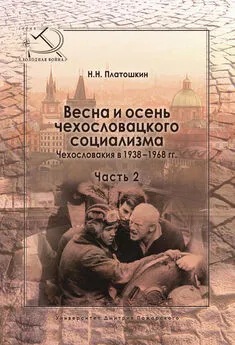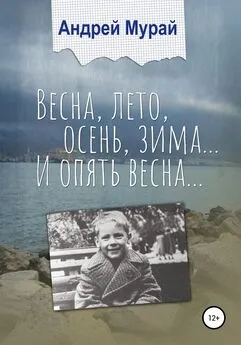Эугениуш Небельский - «Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке
- Название:«Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Алетейя
- Год:2021
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-00165-278-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эугениуш Небельский - «Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
«Весна и осень здесь короткие». Польские священники-ссыльные 1863 года в сибирской Тунке - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Некоторые ссыльные ксендзы, хоть официально и были направлены на поселение в Тунку, так туда и не добрались. Избежал этого поселенец из Никольска (Красноярский округ), уже упоминавшийся ксендз из Люблинской епархии – Ян Хыличковский из Горая, занимавшийся земледелием, скотоводством и торговлей, сотрудничавший с местными жителями, обучавший их современным способам возделывания земли, завоевавший уважение и поддержку деревенского сообщества. Благодаря заступничеству тамошних крестьян перед иркутскими чиновниками в 1866 году Хыличковского оставили в Никольске; в 1880-е годы он вернулся в Польшу и в конце XIX века издал оригинальный труд «Сибирь с этнографической, административной, сельскохозяйственной и промышленно-торговой точки зрения», описывая этот регион как край, открывающий перед людьми предприимчивыми огромные возможности благополучной и обеспеченной жизни – т. е. землю никак не проклятую, а «обетованную». Не попали в Тунку пиарист отец Хуберт Лещиньский из города Ополе-Любельске, находившийся на забайкальской каторге до 1870-х годов (потом он вернулся в Галицию) и Ипполит Сивицкий (Савицкий) из Литовского генерал-губернаторства, скончавшийся в Чите 6 апреля 1865 года. Умерли во время этапа с Нерчинской каторги в Тунку два других священника: в Верхнеудинске (в настоящее время – Улан-Удэ) в сентябре 1868 года – тринитарий Марцелий Травиньский из Варшавы, а в Чите 15 ноября того же года – капуцин Мариан Пиньский из Закрочима, в возрасте пятидесяти шести лет.
Согласно официальным данным о количестве и местах поселения польских ссыльных в Иркутской губернии, а также спискам прихожан Иркутского прихода (составленным ксендзом Кшиштофом Швермицким), в Тунке в разные периоды насчитывалось: в марте 1866 года – около тридцати духовных лиц, на 22 октября 1866 года – шестьдесят семь, на 1 декабря 1867 года – восемьдесят, на 9 июня 1868 года – девяносто одно, на 11 октября того же года – сто двадцать, в январе 1869 года – сто девятнадцать, а 23 августа того же года – сто сорок три, на 27 мая 1870 года – сто сорок четыре, 19 июня 1872 года – сто тридцать три, 2 июня 1873 года – девяносто девять, 1 января 1874 – девяносто одно, 1 февраля 1875 года – семьдесят два, в 1876 году – всего восемь.
В период с 1866 по 1876 годы в Тунке в общей сложности проживало сто пятьдесят шесть духовных лиц (на момент ссылки самому старшему из них было почти семьдесят четыре года, младшему – девятнадцать), мирских и монашествующих, в том числе двое бывших униатов (официально православных). Почти треть от этого числа составляли жители Западного края [6] Восточные воеводства Речи Посполитой Обоих Народов, полученные Российской империей в результате разделов Польши (1772–1795), составляющие территорию, не вошедшую в созданное в 1815 г. Царство Польское.
. Около девяноста духовных лиц происходило из четырех епархий: из Царства Польского – из Варшавской и Плоцкой, а из Литовского генерал-губернаторства – из Вильненской и Жмудской, из каждой по двадцать с лишним человек. Из Варшавы – одиннадцать человек, из Вильно – два. Это «особое внимание» к четырем епархиям было связано как с большим участием тамошнего духовенства в повстанческом движении, так и с их большей численностью по сравнению с другими епархиями. Подавляющее большинство составляли священники: более ста епархиальных, около сорока пяти монашествующих, остальные – монашеская братия и семинаристы. Это были – по оценкам властей – опаснейшие политические преступники периода Январского восстания: повстанцы, капелланы, члены подпольной организации, агитаторы, «политические» проповедники и т. д. Словом, те, кто больше всего способствовал развитию повстанческого движения в Царстве Польском, в Литовском генерал-губернаторстве и Галиции. По нашим сведениям, в эту группу попали также невиновные, но тогдашние российские власти пользовались собственными критериями, согласно которым «подозреваемый» означало «виновный»!
Ссыльные жили в разных частях деревни, в том числе и на окраинах. «Тунка довольно велика, – писал в 1869 году в письме один из ее вынужденных жителей, ксендз Станислав Помирский. – Нас раскидало по разным ее краям. Чтобы просто навестить кого-то или зайти по делу, порой приходится прошагать семь-восемь верст, а то и больше, путь немалый, весь потом обольешься».
Ксендз Куляшиньский живописно рассказывает о том, как, зная разницу между повседневными обычаями местных жителей и ссыльных, можно было на протяжении дня распознать в тункинском пейзаже дома ксендзов: «Тункинские крестьяне имеют обыкновение зимой и летом топить печь и держать в ней приготовленную пищу; мы же топим позже, после утренней службы во благодарение Господа, что сохранил нам жизнь и здоровье: и многочисленные столбики дыма на фоне степи, поднимающиеся в глубокой тишине к небу, указывали на дома ссыльных священников. Эта картина разрывала мне сердце, напоминая, сколько служителей Церкви обречено на бездеятельность!»
III. «В Тунке ксендзов нет» – под надзором полиции
Изолированные в Тунке ксендзы находились под постоянным наблюдением и надзором полиции. Высшей инстанцией для них был полковник Михаил Семенович Купенко (позже он изменил фамилию на Купенков), находившийся в Иркутске и осуществлявший также надзор над ссыльными всей Восточной Сибири, адъютант генерала Корсакова. Непосредственным опекуном и надзирателем над ссыльными в Тунке являлся казачий атаман, сперва поручик, затем штабс-капитан Матвей Андреевич Плотников. Как и все прочие жители деревни, ксендзы также подлежали контролю так называемой мирской избы и заседателя (что-то вроде асессора полиции) Дьяконова. В специально изданном иркутским начальством уставе были подробно прописаны правила проживания изгнанников и контроля над ними. Первые несколько лет он тщательно соблюдался. Другим польским ссыльным не дозволялось селиться даже в отдаленных окрестностях. Поэтому когда польский исследователь Сибири и Байкала, ссыльный Бенедикт Дыбовский хотел устроить исследовательскую станцию в Култуке, расположенном на берегу озера и Тункинского тракта, сибирские власти долго не давали разрешения. «Опасались, – писал Дыбовский, – что мы станем посредниками между ксендзами и остальным миром».
Ксендзы не имели права покидать деревню, корреспонденция их была ограничена четырьмя письмами в год (раз в три месяца; это правило сохранялось до 1869 года) и проходила официальную цензуру в Иркутске. Будучи лишены гражданских прав (а также прав духовных лиц), они не могли совершать службу, иметь алтари, и лишь один-два раза в год им разрешалось пригласить священника из Иркутска для выполнения религиозных обрядов. Считаясь бывшими ксендзами, они не имели права называть себя священнослужителями, даже предварять – в любых документах – фамилию буквами «кс.» [ксендз]. Они также были обязаны извещать всех своих корреспондентов, чтобы те придерживались в письмах данного правила. «В Тунке ксендзов нет».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: