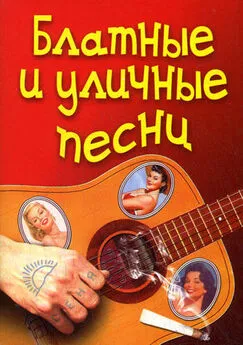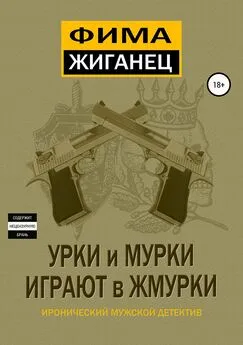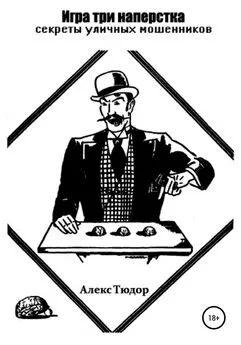Александр Сидоров - На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях
- Название:На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ПРОЗАИК
- Год:2012
- Город:М.:
- ISBN:978-5-91631-167-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Сидоров - На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях краткое содержание
На Молдаванке музыка играет: Новые очерки о блатных и уличных песнях - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Не легче кайла была и тачка. Варлам Шаламов посвятил ей отдельное повествование — «Тачка II». Он пишет о более позднем гулаговском периоде, о Колыме, однако всё приложимо и к Белбалтлагу:
«Тачку нельзя любить. Её можно только ненавидеть. Как всякая физическая работа, работа тачечника унизительна безмерно от своего рабского, колымского акцента. Но как всякая физическая работа, работа с тачкой требует кое-каких навыков, внимания, отдачи.
И когда это немногое твое тело поймёт, катать тачку становится легче, чем махать кайлом, бить ломом, шаркать подборной лопатой…
Колеса тачечник не видит, только чувствует его, и все повороты делаются наугад с начала до конца пути… Единство колеса и тела, направление, равновесие поддерживается и удерживается всем телом, шеей и спиной не меньше, чем бицепсом…
Приобретённые же навыки тело помнит всю жизнь, вечно».
Однако дело не только в тачке, но и в трапе, в том деревянном настиле, по которому заключённый с нею бегает. Такие передвижения тоже требуют особого навыка:
«Настланы толстые доски, и не просто, а соединены друг с другом намертво в особое инженерное сооружение — центральный трап. Ширина этого трапа полметра, не больше. Трап укреплён неподвижно, чтобы доски не провисали, чтобы колесо не вильнуло, чтобы тачечник мог прокатить свою тачку бегом.
Этот трап длиной метров триста… От трапа отходят отростки, много… К каждой бригаде тянутся доски, скрепленные не так основательно, как на центральном трапе, но тоже надёжно.
Уступи дорогу тем, кто бежит бегом, пропускай их, сними свою тачку с трапа — предупреждающий крик ты услышишь, — если не хочешь, чтобы тебя столкнули. Отдохни как-нибудь — чистя тачку или давая дорогу другим, ибо помни: когда ты возвратишься по холостому трапу в свой забой — ты не будешь отдыхать ни минуты, тебя ждёт на рабочем трапе новая тачка, которую насыпали твои товарищи, пока ты гнал тачку на эстакаду… Докатив тачку до своего забоя, ты просто бросаешь её. Тебе готова другая тачка на рабочем трапе».
Возможно, читатель заметит: зачем нам такие подробности, мы ведь тачку катать не собираемся… Не зарекайся, дорогой читатель. Жизнь, она непредсказуема. А тачки в прошлое ещё не канули. Конечно, нет смысла в рамках нашего очерка подробно пересказывать шаламовское повествование. Желающий может сам обратиться к рассказу старого лагерника о тонкостях рабского труда тачечника: и как манипулировали нормой выработки, давая одним бригадам маршрут в 300 метров, а другим — в 60, и как конвойные зорко следили, чтобы тачечник не «филонил», требуя от него даже после отправления большой нужды — «Где говно?!»… Но вот на разновидностях тачек хотелось бы остановиться особо.
Авторы знаменитого сборника о Беломорканале отмечали:
«Здешняя тачка, подобно киргизской лошади, низкоросла, невзрачна с виду, но необычайно вынослива. Она произошла от различных пород тачек: шахтёрских, железнодорожных, украинских, уральских и прочих. Приспосабливаясь и видоизменяясь, тачка приобрела здесь иной разворот ручек и “крыла”, т. е. низкие, широкие бока. И на этих своих выносливых боках она вынесла многие тяготы Беломорстроя. О ней, о “крылатой” тачке, толкуют в бараках, её обсуждают на собраниях, о ней поют частушки:
Маша, Маша, Машечка,
Работнула тачечка.
Мы приладили к ней крыла,
Чтоб всех прочих перекрыла.
И теперь одна из женщин, проходя мимо тачки, плюёт на неё с таким страшным выражением злобы и ненависти, что поражённый конвойный неофициально говорит: “Ну, тётка… ну, тётка…” И больше ничего прибавить не может».
Когда читаешь Шаламова — лагерника более позднего призыва, понимаешь реакцию «тётки». Варлам Тихонович подчёркивал разницу между обычной «старательской» и «гулаговской» тачкой: «Старательская тачка, ёмкостью 0,03 кубометра, тридцать тачек на кубометр породы… На Колыме в золотых её забоях к сезону тридцать седьмого года были изгнаны старательские тачки, как маломерки чуть не вредительские… Гулаговские, или берзинские, тачки к сезону тридцать седьмого года и тридцать восьмого года были емкостью в 0,1–0,12 кубометра и назывались большими тачками… Сотни тысяч таких тачек были изготовлены для Колымы, завезены с материка как груз поважней витаминов».
Шаламов называет гулаговскую тачку «берзинской» — по фамилии директора Дальстроя Эдуарда Берзина, много сделавшего для освоения Колымы зэками и расстрелянного в конце концов летом 1938 года за «шпионскую деятельность в пользу Японии». Беломорскую тачку по аналогии можно назвать «фиринской» — в честь начальника строительства Беломорско-Балтийского канала Семёна Фирина (расстрелян в 1937 году). Она была переходной от «старательской» к «берзинской», и ёмкость её составляла 0,075 кубометра, против чего в ноябре 1936 года выступала газета «Советская Колыма» (статья «Проблема тачки»): «Мы вынуждены проблему откатки грунтов, торфов и песков на какой-то период тесно связать с проблемой тачки… От конструкции тачки в огромной степени зависят и производительные темпы, и себестоимость продукции. Дело в том, что эти тачки оказались ёмкостью всего 0,075 кубометра, тогда как емкость нужна не менее 0,12 кубометра… Для наших приисков на ближайшие годы требуется несколько десятков тысяч тачек. Если эти тачки не будут соответствовать всем требованиям, которые предъявляют сами рабочие и производственный темп, то мы, во-первых, будем замедлять производство, во-вторых, непроизводительно затрачивать мускульную силу рабочих и, в-третьих, растрачивать бесцельно огромные денежные средства».
Грешно умолчать также о замечательном эпизоде из фильма «Заключённые» 1936 года — экранизации пьесы Николая Погодина «Аристократы», посвящённой «перековке» уголовников и «соцвредителей» на Беломорканале (о пьесе и фильме мы подробнее поговорим в следующих очерках). Начальник лагеря Громов видит, как каналоармеец катит тачку, а она соскакивает с трапа-доски. И чекист с отеческой заботой объясняет зэку: «Ты нагружай к колесу больше тяжести, а к рукам — меньше. Тогда тяжесть пойдёт на баланс. Возить будет легче. Доски надо посыпать песком или опилками. Понятно?» И тут же, поворачиваясь к стоящему рядом «вредителю», сурово отчитывает его: «Инженер Садовский, почему не покажете им, как надо работать? Люди мучаются, а зря… Вы же производственник, практик. Вы должны уметь заботиться о людях». И зритель осознаёт, что именно инженер Садовский во всём и виноват. Правда, не совсем ясно, откуда Садовскому знать о тонкостях тачечного дела. Но логика проста: ты же инженер! Про пифагоровы штаны в курсе, должен сообразить и о нагрузке на колесо!
И наконец, вспомним о лагерной поговорке про тачку: «Машина ОСО — две ручки, одно колесо». ОСО — это Особое совещание сначала при ОГПУ СССР (с 28 марта 1924 года), затем при НКВД СССР (с 5 ноября 1934 года по 1 сентября 1953 года). Поговорка, скорее всего, родилась уже после окончания беломорского строительства. Особое совещание при ОГПУ могло приговорить обвиняемого лишь к трём годам лишения свободы — срок не слишком впечатляющий. Поэтому в годы первой пятилетки основная масса «человеческого материала» шла не через ОСО, а через суды. Но вот с 1934 года «колесо ОСО» закрутилось на полные обороты: обвиняемых швыряли в лагеря по «ускоренной программе», без судебных формальностей. Правда, к расстрелу Особое совещание приговорить не могло: максимальный срок — пять лет лагерей, а с апреля 1937 года — 8 лет. Но в памяти лагерников внесудебная машина НКВД и ненавистная зэковская тачка слились в единое целое…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: