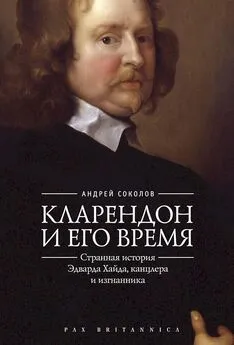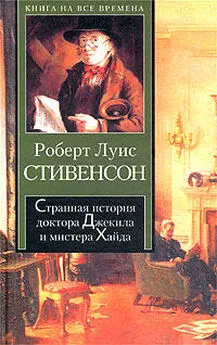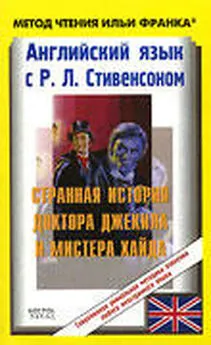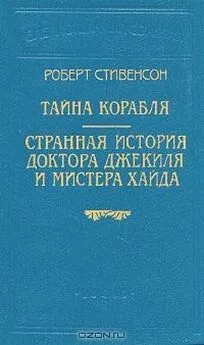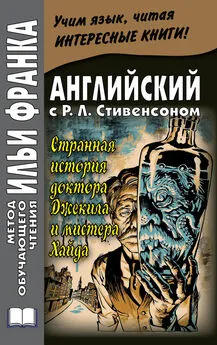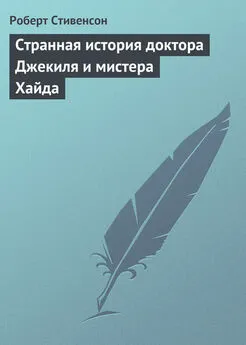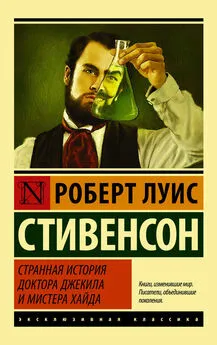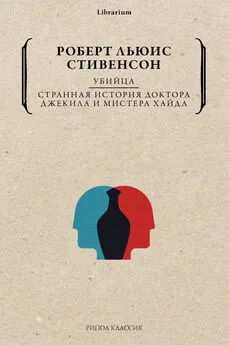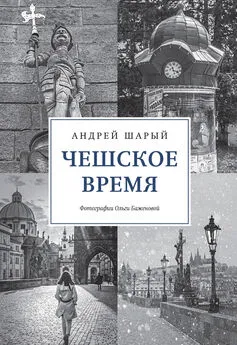Андрей Соколов - Кларендон и его время. Странная история Эдварда Хайда, канцлера и изгнанника
- Название:Кларендон и его время. Странная история Эдварда Хайда, канцлера и изгнанника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алетейя
- Год:2017
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-906980-45-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Соколов - Кларендон и его время. Странная история Эдварда Хайда, канцлера и изгнанника краткое содержание
Как заметил один американский историк, «если бы не он, история Англия могла стать другой».
Кларендон и его время. Странная история Эдварда Хайда, канцлера и изгнанника - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако не только война была причиной возросших трудностей. Введение карантина в порту Лондона не предотвратило появления чумы в Англии. Болезнь распространялась с весны 1665 года, число жертв быстро увеличивалось. Число умерших в Лондоне за неделю составило в середине июня порядка ста человек, в конце того же месяца около трехсот человек, в середине июля порядка тысячи, в конце двух тысяч, в середине августа трех, а в конце шести тысяч. Пик пришелся на середину сентября, тогда за неделю скончалось свыше семи тысяч человек. Спад начался в конце сентября, когда за неделю было зарегистрировано пять с половиной тысяч умерших, и плавно продолжился в последующие месяцы. В течение 1665 года скончалось порядка ста тысяч жителей столицы, что составило примерно от четверти до трети ее населения. Бегство из Лондона началось в июне, город покидали все, кто мог позволить себе. Понятно, что в провинции их принимали с опаской. Король и двор перебрались в Хэмптон Корт в июне, затем в Солсбери, а в сентябре в Оксфорд. В Лондоне для поддержания порядка остался Албемарл.
Главным средством борьбы с эпидемией был карантин. Больных увозили, если требовалось насильно, в лазареты для чумных. Здания, в которых началась болезнь, вместе со всеми жильцами заколачивали, навешивая замки, забивая досками и гвоздями и приставляя охрану. На таких домах рисовали красный крест и надпись «Господи, пощади». Пепис заметил: «Чума сделала людей жестокими, как собаки». Приходы нанимали старух, которые проверяли, нет ли в домах заболевших, не скрывают ли семьи умерших. По ночам по улицам двигались повозки, забиравшие тела из домов и с улиц, если там людей настигла смерть. Могильщики звонили в колокольчик, предупреждая о своем приближении. В разгар эпидемии, в августе и сентябре, прискорбная работа шла и днем, так как ночных часов не хватало. Мертвых сбрасывали в общие могилы. Пьяные, «заслышав ночью громыхание „труповозки“, и звон железного колокольчика, подходили к окну (трактира „Пирог“) и издевались над всеми, кто оплакивал умерших, употребляя „богохульные выражения“ — такие, как „Бога нет“ или „Бог — это дьявол“. Один возчик, когда в его телеге были мертвые дети, имел обыкновение кричать: „А вот кому мальчиков, бери пятерых за шестипенсовик!“ и поднимал ребенка за ногу» [114, 237 ]. Поскольку считалось, что болезнь переносят собаки и кошки, по приказу лорда-мэра уничтожили 40 тысяч псов и 200 тысяч кошек. Средствами профилактики считались разные благовония, цветочные венки и мази. С той же целью на улицах жгли костры.
Карл II вернулся в Уайтхолл только 1 января, когда появилась уверенность, что эпидемия завершилась, хотя вспышки имели место в стране и в 1666 году. Коллинс рассказал об удивлении Ордина-Нащокина, прочитавшего лондонский отчет о смертности: «Странное у вас обыкновение — разглашать свои несчастия. Правда, что нищие обнажают свои раны, чтобы возбудить сострадание и получить помощь, однако кто объявляет о чуме, предостерегает других, чтобы не имели с ним никаких сношений» [21, 53 ]. Вместе со «странным обычаем» английских королей просить за частных лиц, это наблюдение дало боярину основание заключить: «Что нам за дело до иноземных обычае: их платье не по нас, а наше не по них». Из-за чумы осенняя сессия парламента длилась всего три недели, на ней присутствовало не более 160 депутатов. Разногласия в Тайном совете временно ослабли, и Кларендон частично восстановил свои позиции. Ему было поручено найти преемника герцогу Йоркскому на посту главнокомандующего флотом, а король, как в былые времена, провел заседание совета в доме канцлера.
Описались возращения чумы, но в самом начале осени столицу посетил иной гость. 2 сентября в булочной на Пудинг-лейн начался Великий лондонский пожар, подобного которому город еще не переживал. Королевский пекарь дал показания, что проверил все печи перед тем, как лечь спать. Когда ранним утром разбудили лорда-мэра Томаса Бладворта, он недовольно воскликнул: «Тьфу! Да любая женщина зассыт его». Мэр был неправ. Сильный ветер раздул пламя, охватившее не только соседние дома, но целые районы. Верно оценив ситуацию, Пепис сказал королю: единственный способ остановить огонь — разрушить кварталы, расположенные на его пути. Карл дал указание решить это с мэром, но тот побоялся отдать приказ, опасаясь, что за разрушенные здания придется заплатить [91, 266–267 ]. Ветер не прекращался до 5 сентября, и все три дня Лондон горел. Пожар уничтожил большую часть города, в том числе собор Святого Павла, ратушу и Королевскую биржу, больше 90 церквей, около 50 зданий торговых компаний, более 13 тысяч домов, и сделал бездомными примерно сто тысяч человек. Карл сам был на улицах с немногочисленной охраной, раздавал пострадавшим деньги, но вряд ли мог помочь чем-то еще: «Король и герцог скакали с одного места на другое, подвергаясь огромной опасности среди горящих и падающих зданий, раздавая советы и указания, находясь без сна и отдыха в состоянии такой же усталости, как самые низшие» [6, 89 ]. В отличие от эпидемии действия властей во время и после пожара нашли отклик. Администрация обеспечила палатки и хлеб для бездомных. Причины пожара не были раскрыты, но сразу возникли слухи, что это поджог, в котором кого только не обвиняли: французов, голландцев, сектантов, республиканцев. Чаще всего подозревали католиков и ждали, что вот-вот вспыхнут другие города. Парламент создал специальный комитет для расследования, который пришел к выводу, что это дело рук французских католиков и иезуитов. Комитет потребовал, чтобы католики, служившие королевам Екатерине и Генриетте Марии, в тридцатидневный срок принесли клятву верности королю, а в противном случае подвергнуты наказанию [11, IV, 334 ]. Некто Робер Юбер, часовщик из Руана, признался в поджоге и был казнен. Хайд назвал это «очень странным», ибо в виновность этого молодого человека не верили ни судьи, ни король. Тот, однако, настаивал, что получил в Париже от некоего человека один пистоль и обещание заплатить еще пять, если дело будет сделано. Герцог Йоркский спас от линчевания какого-то голландца. Кларендон сообщал, что людей, попадавших под подозрение, отвозили в тюрьмы, где они чувствовали себя в большей безопасности, чем на свободе. Карл II встретился с людьми, расселенными в палатках, и говорил, что пожар не чей-то злой умысел, а кара Божья. Многие разделяли такой взгляд и считали случившееся наказанием новому Содому. Не только милленарии связывали чуму и пожар с грядущим апокалипсисом.
Многие были убеждены, что если Англию наказал бог, то его гнев вызвали, в первую очередь, придворные нравы. В «викторианской» по духу советской историографии отмечалась «нравственная распущенность», царившая при дворе Карла II, а в некоторых работах с уместной этому случаю иронией приводились детали, побуждавшие читателя в полной мере оценить глубину падения буржуазно-дворянского общества. Так, Е. Б. Черняк сообщал, что Карл II «волочился за каждой юбкой», имел прозвище «Старина Роули», в честь лучшего жеребца королевской конюшни, и гордился им, а одна из его любовниц актриса Нелли Гвини спаслась от разъяренной толпы, прокричав: «Я добрая протестантская шлюха» [147, 175 ]. Слегка приспустившая покровы викторианской морали современная российская историографии стала чуть откровеннее в представлении информации об этой стороне жизни стюартовского двора, хотя прежний иронично-морализаторский тон сохранила. Например, Л. И. Ивонина пишет: «Король подавал пример всей стране. Любители амурных авантюр всеми силами освобождались от гнета пуританской морали. Парламент Английской республики карал супружескую неверность смертью, а при Карле добродетельность и верность стали предметом насмешек, прекратились разговоры о воздержании и вреде незаконных связей» [120, 200–201 ]. Она даже сообщила, что придворный доктор короля полковник Кондом изобрел презерватив, когда «число собственных наследников начало смущать любвеобильного Карла». Между тем, в текстах Черняка и Ивониной обнаруживается отличие, не кажущееся второстепенным. Черняк утверждал: «Большинство подданных веселого монарха не было склонно ни к античным параллелям, ни к восхищению вкусом, проявленным королем. Недаром богобоязненные буржуа-пуритане, ужасавшиеся от безнравственности двора, превращенного в аристократический дом терпимости, были в то же время весьма озабочены тем, чтобы в этом „чертоге сатаны“ особым фавором пользовалась угодная им содержанка, а не ее соперницы». Ивонина пишет иначе: «Было очевидно, что значительная часть англичан предпочитала вседозволенность Реставрации моральным законам времен республики Кромвеля». Как общество воспринимало шалости королевского окружения, с презрением, равнодушием или долей энтузиазма? Действительно ли это было чем-то из ряда вон?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: