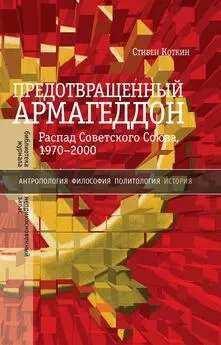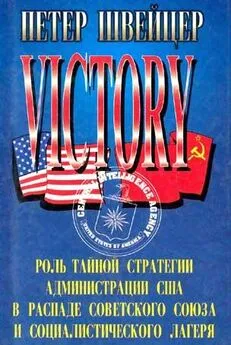Стивен Коткин - Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000
- Название:Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1049-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Стивен Коткин - Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000 краткое содержание
Сконцентрировав внимание на политических элитах этих государств и на структурных трансформациях, вызвавших распад одного из них и возникновение другого, автор обращается к нескольким сюжетам. К возглавленному Горбачевым партийному поколению, сложившемуся под глубоким влиянием социалистического идеализма. К ожиданиям 285 миллионов людей, живших в пространстве реального социализма. К плановой экономике и типичному для нее институту — огромному, неэффективному и неповоротливому заводу.
Поскольку движение истории не обходится без случайностей и непредвиденных обстоятельств, книга рассказывает о конкретных попытках придерживаться того или иного политического курса, а также о неожиданных результатах таких попыток. Поскольку распад советской системы и противоречия 1990-х невозможно понять вне контекста перемен, произошедших в мире после Второй мировой войны, этот рассказ носит одновременно исторический и геополитический характер.
Перевод сделан по дополненному изданию 2008 года.
Предотвращенный Армагеддон. Распад Советского Союза, 1970–2000 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В своем знаменитом высказывании Уинстон Черчилль назвал Россию «загадкой, хранящейся в секрете, завернутом в тайну». А затем (обычно эта часть цитаты опускается) он посоветовал всем, кто пытается предсказать поведение России, искать «ключ» к нему в ее национальных интересах. Превосходное предложение — особенно для Кремля, который и в реальности, и особенно в том, что касается восприятия его действий в мире, рисковал очень многим. Некоторая часть российской элиты, как и в США, по-прежнему верила в особую вселенскую миссию своей страны (хотя именно чрезмерное напряжение сил привело к краху и царскую Россию, и Советский Союз) и ничего не желала слышать об издержках и рискованности такого подхода. С другой стороны, многие в российских верхах осознали, что их стране необходимо считаться не только с Соединенными Штатами, но и с Китаем. Однако на эту ситуацию можно посмотреть и иначе. Россия и Китай были противниками, имевшими множество противоположных интересов. Если обе страны смогут и дальше иметь дело с глобализацией на собственный манер, без политической либерализации, то неясно, окажутся ли богатые демократии и прежде всего США с их извечным миссионерством в состоянии справиться с возвратом к геополитическому соперничеству с государствами, обладающими рыночной экономикой и при этом нелиберальными. Этот вызов можно было бы сформулировать как «учиться жить с автократами».
Георгий Дерлугьян
Что же случилось?
Неожиданный и престранный самораспад СССР — предмет данной книги — почти тридцать лет остается у нас без внятного объяснения. В какой-то мере в этом, вероятно, сказывается безотчетная психологическая защита, вытеснившая из общественного сознания угрозу атомной войны, которую Стивен Коткин обозначил библейским эсхатологическим понятием Армагеддон. Меня самого, признаться, на военной кафедре МГУ некогда рутинно готовили к ведению допросов военнопленных на английском языке и налаживанию на территории поверженного противника новой мирной жизни при помощи «прогрессивных сил» из местного населения, как это происходило после 1945 года в восточной части Германии. Но о какой жизни могла идти речь после применения нейтронных бомб?!
Нехватка рационального осознания полного спектра возможностей, которые мы, едва замечая, миновали тридцать лет назад, показательна для наступившей сумятицы умов. Антрополог Алексей Юрчак отразил всеобщее состояние в замечательно ироничном названии своей книги: «Это было навсегда, пока не кончилось» [208] Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось: последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
. Крушение любой социальной системы в результате революций и войн неизменно вызывает две эмоциональные реакции, противоположные по знаку и одинаково нелогичные по понятным идеологическим причинам. Консервативные публицисты и обычно примыкающее к ним большинство винят во всем предательство и иностранный заговор, сугубо внешние и привнесенные факторы. Если царская империя до 1917 года казалась им столь великой и укорененной в народном быту, то что еще остается винить во внезапном свержении самодержавия, как не бесовские чары Распутина, космополитов-большевиков и германские деньги? Либеральные круги, напротив, видят в старорежимных порядках глубокую порочность и исторический тупик, то есть объективные внутренние факторы. В таком случае почему краха пришлось ждать очень долго, а наступил он так неожиданно? Почему советская «пролетарская диктатура» победила в Гражданской войне, удержалась перед лицом вооруженных народных восстаний в 1921 году, среди голода и хаоса 1931 года или в конце 1941-го, когда мощнейшая в истории человечества армия вторжения подступила к Москве? Ссылка на репрессии лишь откладывает требуемое объяснение. Тогда отчего к моменту краха старорежимные держиморды, будь то в 1917 или 1991 годах, вдруг растерянно остолбенели и прекратили репрессии?
Объяснений не дадут детальные истории событий (кто, когда, кому и что сказал) и тем более интервью и мемуары участников, обреченных вечно переживать наиболее эмоциональные мгновения своей жизни. Требуется макротеоретическая реконструкция, способная организовать ворох исторических событий и свидетельств в аналитически непротиворечивый нарратив. Таких попыток пока крайне мало [209] Важное, пусть и спорное отечественное исключение составляет работа: Гайдар Е. Т. Гибель империи. М.: Астрель; CORPUS, 2012.
. Приходится импортировать их из-за рубежа, хотя и там, честно говоря, с этим не густо. Западные советологи и русисты в громадном большинстве были сами застигнуты врасплох как горбачевской перестройкой, так и ее ошеломительным провалом. Сказалось и профессиональное разделение труда. Историки устремились в открывавшиеся архивы сталинских времен, антропологи и социологи углубились в дискурсы и идентичности отдельных групп, политологов интересовали переходные режимы, нагрянувшие же со всех сторон эксперты и экономисты легко приняли за аксиому иррациональность советского планового хозяйства.
Словосочетание «коллапс коммунизма» обиходно закрепилось как бы само собой. Но ведь коллапс постиг только Советский Союз, Германскую Демократическую Республику и отдельно стоявшую федеративную Югославию — но не Китай и Вьетнам и даже не маленькую гордую Кубу. Заметьте, распались индустриально наиболее развитые из коммунистических государств, включая мирный «развод» Чехии со Словакией.
Стивен Коткин показывает, что это произошло вовсе не случайно. С первых страниц своей книги он помещает распад СССР в один ряд с болезненной деиндустриализацией некогда наиболее промышленно развитых регионов в центрах капитализма: Северной Англии и Уэльса, германского Рура, американской Пенсильвании и Индианы, после 1970 года катастрофически быстро превратившихся в «Ржавый пояс», а сегодня — в «Трампландию» (зону политической поддержки обозленных популистов). Коткин очень хорошо знает судьбу индустриальных гигантов. Его первая монография была подробной и всесторонней историей построения советской Магнитки в годы первых пятилеток [210] Kotkin S. Magnetic Mountain: Stalinism as a Civilization. University of California Press, 1995.
. Бросается в глаза вызывающий подзаголовок той работы: Сталинизм как цивилизация .
Американец Коткин выступает интеллектуальным наследником традиций континентальной Европы. Характерно, что первым предметом его интересов была феерически роскошная культурная жизнь Австро-Венгрии. В начале 1980-х он мечтал попасть в аспирантуру в Принстон к профессору Карлу Шорске, автору изысканного историко-культурологического исследования «Вена на рубеже веков». Но Шорске ушел на пенсию, как и положено, в 65, а затем прожил до ста лет, со временем став другом и коллегой Коткина, пришедшего в Принстон в 1989 году уже в качестве профессора истории и международных отношений. Влиятельная позиция в столь престижном университете давала непосредственный доступ к политическим и деловым элитам США и, соответственно, многих других стран, включая бывший СССР. Стивен Коткин, чурающийся (и это мягко говоря) всякого гламура и светских тусовок, приобрел впечатляющий спектр инсайдерских связей и знаний о высокой политике и финансах, что придает перспективу и остроту его комментариям и исследованиям актуальной истории. Удивительно ли, что среди неизменно внимательных читателей Коткина обнаруживается Иммануил Валлерстайн, всегда ценивший ясность и историческую перспективу?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: