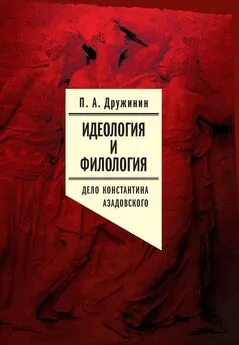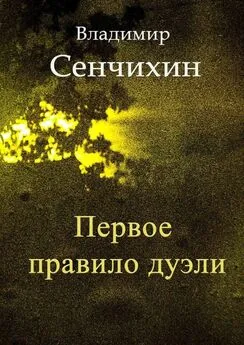Владимир Захаров - Загадка последней дуэли. Документальное исследование
- Название:Загадка последней дуэли. Документальное исследование
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Русская панорама
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:5-93165-014-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Захаров - Загадка последней дуэли. Документальное исследование краткое содержание
В Приложениях опубликованы кавказские заметки декабриста В.С. Толстого и неизвестная статья В.А. Мануйлова о тайне происхождения Ю.М. Лермонтова.
Загадка последней дуэли. Документальное исследование - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
2
До этого первым печатным произведением поэта считалась поэма «Хаджи-Абрек», появившаяся в 1835 году.
3
В 1991 г. М. Дамианиди и Е. Рябов доказали, что это не больше, чем вымысел. Они впервые исследовали и опубликовали переписку Марии Щербатовой с А.Д. Блудовой. «Теперь не подлежит сомнению, — пишут исследователи, — что поспешный отъезд Щербатовой 22 февраля 1840 года из Петербурга в Москву был обусловлен чисто семейными причинами — болезнью отца. Укоренившееся мнение о ее поспешном отъезде после того, как ей стало известно о дуэли Лермонтова с Барантом, следует отвергнуть как не имеющее оснований. Необходимо отказаться и от предположения, согласно которому поэт, находясь под арестом, встречался с Щербатовой, приехавшей якобы из Москвы на могилу сына. Эти предположения опровергают ее письма из Москвы в Петербург 15, 23 марта и 17 апреля» [145, 199].
Блудова Антонина (Антуанетта) Дмитриевна — дочь Анны Андреевны Блудовой (1777–1848), урожденной княжны Щербатовой, и главноуправляющего Вторым отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии Д.Н. Блудова, который был дружен с В.А. Жуковским, А.И. Тургеневым, П.А. Вяземским, был членом литературного общества «Арзамас». В своих воспоминаниях о поэте Антонина Дмитриевна писала: «Вот Лермонтов с странным смешением самолюбия не совсем ловкого светского человека и скромности даровитого поэта, неумолимо строгий в оценке своих стихов, взыскательный до крайности к собственному таланту и гордый весьма посредственными успехами в гостинных. Они скоро бы надоели ему, если бы не сгубили безвременно тогда именно, когда возрастал и зрел его высокий поэтический дар» [34, 64].
В альбоме Блудовой сохранились 5 рисунков Лермонтова и списки двух стихотворений: «Молитва» («В минуту жизни трудную») и «Тучи». Известен отзыв о Лермонтове ее отца — Д.Н. Блудова, который говорил дочери, что очень ценит Лермонтова и «…почитает единственным из наших молодых писателей, чей талант постепенно созревает, подобно богатой жатве, взращиваемой на плодоносной почве…» [118, 65].
4
Об этой хитрости на Кавказе знали все. Так, кстати, поступил Лермонтов и во время первой ссылки в 1837 г. [см.: 75, 139–151]. Дело в том, что в 1840 году, как и в 1837 году, Николай I отправил Лермонтова в полк, который не принимал участия в активных военных действиях.
В 1837 году поэт был прикомандирован в Нижегородской драгунский полк. Однако и Лермонтов, и его дядя — генерал П.И. Петров, бывший в то время в Ставрополе начальником Штаба Кавказской линии и Черномории, прекрасно понимали, что во время военных действий показать себя в бою, отличиться будет проще. Такая возможность могла быть осуществлена лишь при участии в экспедиции, которые были на Кавказе каждый год. Это как раз и давало повод для прощения.
Но вот как отправить Лермонтова в экспедицию? Перевести поэта самочинно было возможно, но это означало нарушение воли Государя, решиться на что было весьма рискованно. И хотя П.И. Петров с помощью начальника Штаба Кавказского корпуса смог перевести Лермонтова в экспедицию, он все-же постарался обзавестись защитой. К этому делу привлекли А.И. Философова — флигель-адъютанта Великого князя Михаила Павловича, младшего брата Императора. Философов был женат на кузине Лермонтова. 7 мая 1837 года он написал в Тифлис письмо к своему старому приятелю В.Д. Вольховскому — начальнику Штаба Кавказского корпуса:
«Письмо твое, любезнейший и почтеннейший Алексей Илларионович, — отвечал Вольховский Философову, от 7/19 мая получил я только в начале июля в Пятигорске и вместе с ним нашел там молодого родственника твоего Лермонтова. Не нужно тебе говорить, что я готов и рад содействовать добрым твоим намерениям на щет его: кто не был молод и неопытен? На первый случай скажу, что он, по желанию ген. Петрова , тоже родственника своего, командирован за Кубань, в отряд ген. Вельяминова: два, три месяца экспедиции против горцев могут быть ему небесполезны… По возвращении Лермонтова из экспедиции постараюсь действовать на щет его в твоем смысле».
Но пока письмо нашло В.Д. Вольховского в Пятигорске, куда он приехал для лечения, в Ставрополь, в Штаб войск, пришел рапорт, подписанный все тем же Вольховским, датированный 10 июля, об отправлении в действующий за Кубань отряд Нижегородского драгунского полка прапорщика Лермонтова. Оказывается, Павел Иванович Петров, воспользовавшись присутствием Вольховского в Пятигорске, просил его отдать соответствующий приказ. Ведь именно об этом пишет В.Д. Вольховский в письме к Философову.
В 1837 году друзья рассчитывали, что прощение Лермонтова может произойти в самое ближайшее время. Философов, находясь в свите Великого князя на маневрах, пишет жене в Петербург 1 сентября: «Тетушке Елизавете Алексеевне (бабушке Лермонтова. — В.З .) скажи, что граф Орлов сказал мне, что Михайло Юрьевич будет наверное прощен в бытность Государя в Анапе, что граф Бенкендорф два раза об этом к нему писал и во второй раз просил доложить Государю, что прощение этого молодого человека он примет за личную себе награду; после этого, кажется, нельзя сомневаться, что последует милостивая резолюция».
И действительно, все тогда произошло так, как и предполагали. 11 октября 1837 г. в Тифлисе Государь отдал Высочайший приказ по кавалерии о переводе «прапорщика Лермантова лейб-гвардии в Гродненский гусарский полк корнетом» [75, 140–141, 144].
5
В отделе рукописей ИРЛИ был обнаружен рапорт Выласкова в Штаб Отдельного Кавказского Корпуса:
«30 октября 1840 г.
№ 3795
из кр<���епости> Анапы
В Штаб отдельного Кавказского корпуса от командующего Тенгинским пехотным полком подполковника Выласкова
Рапорт.
В следствии отношения ко мне начальника штаба войск Кавказской линии флигель-адъютанта полковника Траскина от 14-го октября № 176-й честь имею представить при сем в оный штаб формулярный список о службе командуемого мною полка поручика Лермонтова; присовокупляю, при том, что офицер этот — по переводу к полку не пребывал, из отзыва только господина полковника Траскина узнал я, что он находится в отряде господина генерал-лейтенанта, а по сему и не приписано в графе время прибытия к полку» [75, 146].
6
В конце прошлого века П.К. Мартьянов обнаружил в Московском архиве Главного штаба документы, которые позволили уточнить и исправить ряд неточностей, вкравшихся в биографию поэта, опубликованную П.А. Висковатым. К сожалению, в свое время на публикацию П.К. Мартьянова не обратили внимания. Советские лермонтоведы с недоверием относились к Мартьянову, за ним закрепилась слава «правого» журналиста и даже «выдумщика». Однако некоторые неточности и незначительные ошибки, действительно имевшие место в статьях Мартьянова, не умаляют значения его труда, который в чем-то может соперничать с первой биографией, написанной П.А. Висковатым. Первым, кто проверил свидетельства Мартьянова и нашел им полное подтверждение, был С.И. Недумов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: