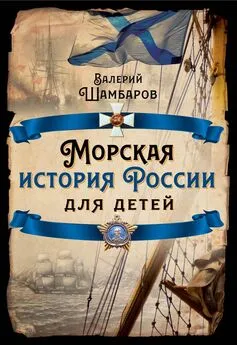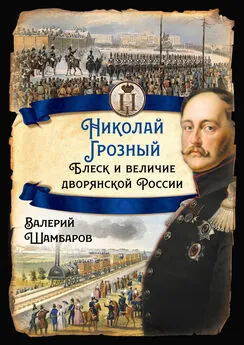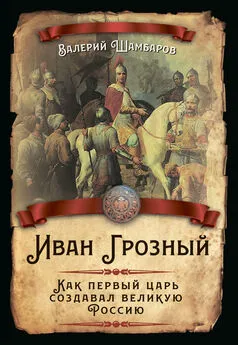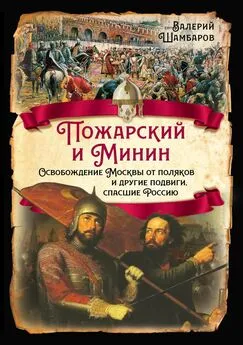Валерий Шамбаров - Россия и Запад. Почему мы победим?
- Название:Россия и Запад. Почему мы победим?
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Родина
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-00180-237-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Шамбаров - Россия и Запад. Почему мы победим? краткое содержание
Россия и Запад. Почему мы победим? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Разумеется, кого-то жаловали не по деловым качествам, а из уважения к роду. Но за особые заслуги в бояре выдвигали и людей, не принадлежащих к аристократической верхушке. А кроме того, в состав Думы входили думные дворяне (выходцы из мелких помещиков) и думные дьяки — из простонародья. Такие чины достигались только персональными талантами. И в целом состав Думы поддерживался вполне работоспособным. В середине XVII в. в нее входили 29 бояр (пять не из знати), 24 окольничих, 6 думных дворян и 4 думных дьяка.
В административном отношении Россия делилась на уезды, и представителями «вертикали власти» в уездах были назначаемые воеводы. Но представление о том, будто отправка воеводы «на кормление» отдавала город в полное его распоряжение, было бы далеко от истины. «Кормление» означало дополнительный заработок за службу, но существовали особые «доходные списки», четко определявшие, какие именно «кормы», подарки на праздники и пошлины с судебных дел он мог получать. Если же прихватывал лишку, население имело право вчинить ему иск и потребовать возмещения «за неправды». А царь в таких случаях назначал расследование и чаще всего принимал сторону жителей. Все воеводы, волостные тиуны и прочие администраторы занимали должность 2–3 года, после чего обязаны были дать отчет.
А кроме воеводы, в уездах существовали выборные власти. Из числа местных служилых (дворян, детей боярских, стрельцов, казаков) жителями избирался губной староста — он соответствовал английскому шерифу и занимался расследованием уголовных дел. «Всем миром» избирался и земский староста. В помощь ему «мир» избирал земских приставов, окладчиков, целовальников (отвечавших за какое-то дело и принесших присягу с целованием креста). После выборов составлялся «ряд» — протокол с подписями избирателей и пунктами, оговаривающими взаимные обязательства должностных лиц и «мира». Земский староста имел свою канцелярию — земскую избу. Она ведала всем местным хозяйством, разверсткой земли, раскладкой податей, здесь собирались выборные и принимались решения по тем или иным насущным проблемам. А если для этого полномочий не хватало, созывался «мир» для всеобщего обсуждения и «приговора».
И вмешиваться в дела земского старосты воевода не имел права! Выборных должностных лиц сместить он не мог. Мало того, согласно Судебнику 1550 г., он не имел права арестовать человека, не предъявив доказательств его вины земскому старосте и двум целовальникам. Если же нарушал этот закон, земский староста мог освободить арестованного (даже без ведома воеводы), да еще и по суду взыскать с администрации штраф «за бесчестье». (Кстати, в Англии закон о неприкосновенности личности, «Нabeas corpus act», был принят только в 1679 г.)
Однако и воевода со своей стороны был обязан следить за законностью действий земских властей. Ведь на выборах нередко брали верх тогдашние «бизнесмены». Бывало, что пользовались полномочиями в корыстных целях, допускали «неправды» при раскладке налогов. В таких случаях население могло обратиться к воеводе. Он пересылал жалобу в Москву, и царь назначал расследование или давал указание о перевыборах.
Самоуправляемые земские общины существовали и на других уровнях. В городах это были концы, слободы, сотни. В них избирались кончанские, слободские старосты, сотские, пятидесятские, десятские (старшие над десятью дворами). Так, в Москве Тверская-Константиновская хамовная (ткацкая) слобода избирала на год 2 старост, 4 целовальников и 16 десятских. А у крестьян были сельские общины, избиравшие старост, целовальников, приставов «для государева дела и денежных сборов». Церковные приходы избирали священников и дьячков. Об этом тоже составлялся договор с указанием обязанностей, прав и статей доходов. Если же служители церкви оказывались нерадивыми или выходили за рамки договора, их могли выпроводить вон. Допустим, небезызвестного протопопа Аввакума прихожане выгоняли отовсюду за чересчур суровые воспитательные меры по отношению к пастве. Протопопу покровительствовали сам царь и патриарх. Но даже они со своей властью не могли восстановить его в прежних приходах! Раз «мир» решил — все!
Суды в зависимости от важности дел осуществлялись воеводами, старостами, приказчиками бояр и монастырей. Но во всех судах тоже заседали выборные от посадских и крестьян — по 5–6 «добрых и смысленых людей». Так что и присяжные уже были. Правда, специальных юридических институтов на Руси не существовало. Но любопытно, что тогдашние иностранцы отмечали это как… великое благо. «В одном отношении русское судопроизводство достойно одобрения. У них нет специалистов-законников, которые бы вели дело в судах. Каждый сам ведет свое дело и свои жалобы и ответы подает в письменной форме в противоположность английским порядкам» (Ченслор). «Однако и самый последний крестьянин так сведущ во всякого рода шельмовских науках, что превзойдет и наших докторов юристов во всяческих казусах и вывертах. Если кто-нибудь из наших всеученейших докторов попадет в Москву — придется ему учиться заново» (Штаден). Флетчер пишет, что судебные дела «решаются у них большей частью удовлетворительно и скоро». А Олеарий делал вывод, что русские суды «не хуже, если не лучше немецких».
Подати в России были невысокими. В этом сходятся все иноземцы, посещавшие нашу страну. Тьяполо писал, что царь мог бы получать в несколько раз больше, «но не обременяет налогами» людей. Ему вторит и Олеарий: «Подданные обыкновенно не платят больших налогов». Хотя в чрезвычайных ситуациях, вроде войны, мог вводиться единовременный чрезвычайный сбор — «пятая деньга», «десятая деньга». Не от доходов — а все имущество хозяина оценивалось, и от общей суммы платилось, соответственно, 20 или 10 %. Но, для сравнения, в Польше 10 % от стоимости имущества было постоянной, ежегодной податью с крестьян. А в России для введения чрезвычайного налога требовалось созвать Земский Собор! «Всей землей» решали, что дело, на которое предлагают раскошелиться, — нужное. Вернувшись к избирателям, делегаты объясняли, по каким причинам надо скинуться «всем миром».
Между прочим, такая система оказывалась выгодной всем. У крестьян и посадских оставались лишние деньги, у них появлялась возможность развивать хозяйство, поставить на ноги детей, помочь им обзавестись своими хозяйствами и промыслами. А когда у государства возникала крайняя нужда в средствах, оно получало 10 или 20 % уже и с тех дополнительных богатств, которые наживут подданные.
Что же касается каких-то злоупотреблений, притеснений со стороны власть имущих, то в российской системе существовала четкая «обратная связь». От самых «низов» и вплоть до царя. Обратиться с челобитной непосредственно к монарху мог каждый! Ведь государь постоянно бывал на людях, ежедневно шел из дворца на службу в Успенский собор, выезжал в другие храмы. Олеарий, описывая выход в храм Михаила Федоровича, рассказывает, что многие люди при этом держали над головой челобитные. А специально выделенные чиновники собирали их и унесли за царем для разбора и принятия решений. Ну а при Алексее Михайловиче во дворце было устроено особое «челобитное окно» — утром из него спускали ящик, и любой человек мог прийти и положить туда свою жалобу, которая попадет к ближайшим доверенным лицам царя и в его собственные руки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
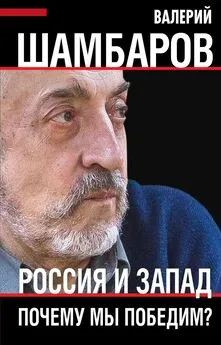
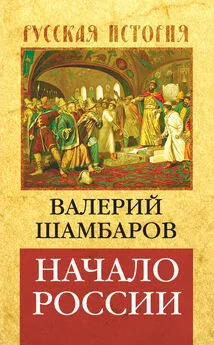

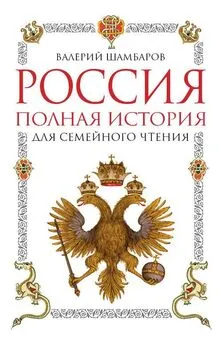
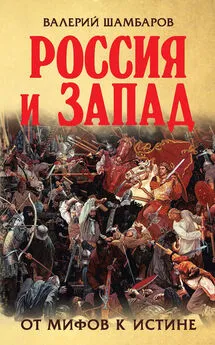
![Валерий Шамбаров - Иван Грозный. Как первый царь создавал великую Россию [litres]](/books/1145307/valerij-shambarov-ivan-groznyj-kak-pervyj-car-soz.webp)