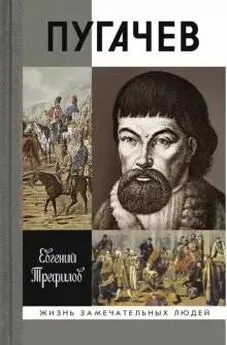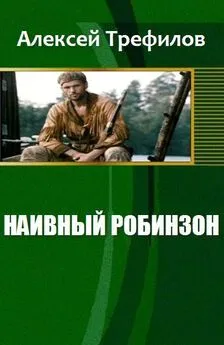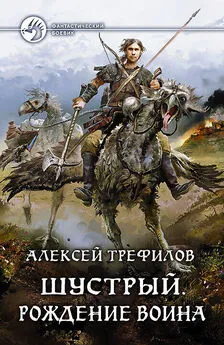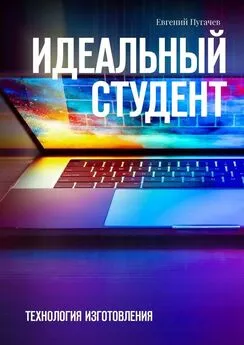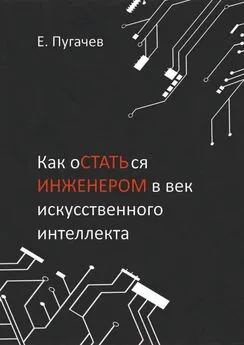Евгений Трефилов - Пугачев
- Название:Пугачев
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Молодая гвардия
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-235-03796-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Трефилов - Пугачев краткое содержание
Кандидат исторических наук Евгений Трефилов отвечает на эти вопросы, часто устами самих героев книги, на основе документов реконструируя речи одного из самых выдающихся бунтарей в отечественной истории, его соратников и врагов.
Пугачев - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Пару слов скажем о дальнейшей судьбе пугачевских спутников. Семья Дружининых скиталась по Заволжью, затем вернулась в родные места, жила близ Алата в землянке до тех пор, пока в феврале 1775 года не была арестована и доставлена в Казань. В марте Парфена и Филимона для дальнейшего следствия отправили в Москву, в Тайную экспедицию. В конечном счете Дружининых признали невиновными в антигосударственных деяниях Пугачева. Парфена возвратили в Казанскую губернскую канцелярию, где он должен был находиться до тех пор, пока не покроет недостачу казенных денег. Но Парфен недолго содержался в неволе — вскорости деньги за него внесли человеколюбивые «сограждане». Филимон же был освобожден сразу. Что же касается солдата Григория Мищенкова, то он летом 1773 года, отколовшись от Дружининых, поселился на реке Кинеле в Черкасской слободе. Что сталось с ним дальше, неизвестно [200] См.: РГАДА. Ф. 6. Д. 414. Л. 278–282, 288 об.-292, 297–310.
.
Пугачев прожил в Сарсасах несколько недель, а потом отправился в дальнейший путь, который лежал на Яик. Вместе с ним поехал и Кандалинцев. Правда, по словам Пугачева, Алексей ничего не знал о его «злых замыслах» и направлялся на Иргиз «для спасения в скит». Не доезжая Яицкого городка «версты с четыре», путники встретили местную бабу, которую Пугачев спросил:
— Што, молодушка, можно ли пробратца на Яик?
— Кали есть у вас пашпорты, так, пожалуй, поезжай, а кали нет пашпорта, то тут есть салдаты, так вас поймают.
Товарищи, «испужавшись сих слов», поехали в сторону Талого умета, держателем которого был Степан Оболяев, он же Еремина Курица. Неподалеку от умета они встретили возвращавшихся с Яика порожняком «Мечетной слободы мужиков». Кандалинцев поехал с ними в Мечетную, а Пугачев, заплатив ему за лошадей, направился к Ереминой Курице. О Кандалин-цеве можно добавить только то, что во время пугачевщины он принял участие в восстании, за что и был казнен [201] См.: Емельян Пугачев на следствии. С. 69, 70, 158, 259.
.
У Оболяева Пугачев появился, по одним данным, в середине июля 1773 года, а по другим — «накануне Успеньева дни», то есть 14 августа. Ереминой Курице запомнилось, что «платье на нем было крестьянское, кафтан сермяжной, кушак верблюжей, шляпа распущенная, рубашка крестьянская холстинная, у которой ворот вышит был шолком, наподобие как у верховых мужиков, на ногах коты и чулки шерстяные, белые». Степан, конечно, знал об аресте Емельяна, а потому немало удивился, увидев его.
— Как ты, Пугачев, свободился?
— Бог помог мне бежать, так я ис Казани ушол.
— Ну, слава богу, што Бог тебя спас!
— Што, брат, не искали ли меня здесь?
— Нет.
— Што слышно на Яике?
— Смирно.
— Што, Пьянов жив ли?
— Пьянов бегает, для тово что проведали на Яике, што он подговаривал казаков бежать на Кубань [202] См.: Там же. С. 70, 158, 159; РГАДА. Ф. 6. Д. 506. Л. 38 об., 39; Д. 512. Ч. 1. Л. 229 об., 230.
.
Степан разрешил Пугачеву пожить некоторое время на умете. Его нисколько не смущало, что Емельян бежал из тюрьмы — «хотя бы он с виселицы был». Главное для Степана — исполнить «слово Божие», повелевающее «странных (странников. — Е. Т.) призирать и питать». И уж тем более не могло его смутить признание Пугачева, что он не купец, а «дубовский казак Петр Иванович» (в этот раз по каким-то причинам Пугачев решил назваться так) [203] См.: Емельян Пугачев на следствии. С. 70; РГАДА. Ф. 6. Д. 506. Л. 39–40 об., 41,41 об., 140 об.; Д. 512. Ч. 1.Л. 244 об.
.
Какое-то время Емельян жил спокойно, «упражняйся в стрелянии и ловле на степи зверей». Однако разговоры укрывавшихся от властей казаков, заезжавших на умет, напоминали Пугачеву, что он приехал сюда не прохлаждаться. Казаки жаловались, что должны выплачивать большие штрафы за убийства и грабежи, совершённые ими во время бунта: «…велено собрать с кого сорок, с кого тритцать, а с некоторых и по пятидесяти рублей… А как такой суммы заплатить нечем, военная ж команда строго взыскивает, и так-де многая от етого разъехались, а с жон-де наших взять нечего, что хотят, то и делают с ними. И заступить-де за нас некому. Сотников же наших, кои было вступились за войско, били кнутом и послали в ссылку. И так-де мы вконец разорились и разоряемся. Теперь-де мы укрываемся, а как пойманы будем, то и нам, как сотникам, видно, также пострадать будет. И чрез ето-де мы погибнем, да и намерены по причине той обиды разбежаться все. Да мы-де и прежде уже хотели бежать в Золотую Мечеть, однакож-де отдумали до время» [204] Емельян Пугачев на следствии. С. 70, 71.
.
К этим казачьим сетованиям необходим комментарий, без которого трудно понять ситуацию на Яике накануне Пугачевского восстания. В конце апреля 1773 года был получен окончательный приговор Военной коллегии по делу участников яицкого мятежа, подписанный императрицей. Он был гораздо мягче, чем проект, предложенный следственной комиссией: казнить несколько десятков человек, часть казаков наказать «нещадно плетьми» и отправить на фронт, наказать и детей мятежников «от пятнадцати лет и свыше». Окончательный приговор вообще не предусматривал смертной казни. 16 человек «первых и главнейших зачинщиков» следовало, «наказав кнутом, вырвав ноздри и поставя знаки, сослать в Сибирь на Нерчинские заводы в работу вечную». Еще 38 человек подлежали битью кнутом, но уже без вырывания ноздрей и клеймения, а потом отправке с женами и «малолетными детьми» на поселения в разные места. Шестерых сознавшихся в своих преступлениях предписывалось, выпоров плетьми, отправить на фронт. Наконец, еще 25 бунтовщиков также повелевалось наказать плетьми, а затем престарелых отправить в симбирский гарнизон, а молодых распределить по различным армейским полкам. Этот приговор был публично исполнен в Яицком городке 10 июля 1773 года.
Однако помимо кнута, в прямом и переносном смысле, приговор предусматривал для мятежных казаков и «пряник». Прежде всего, объявлялось прощение шестерым мятежникам, которые во время бунта защищали офицеров и старшин от «мести» восставших и уговаривали последних прекратить бунтовать. Среди прощенных был Максим Шигаев — в недалеком будущем он станет одним из ближайших пугачевских сподвижников. Определенную роль в подготовке будущего восстания сыграет и еще один помилованный, Михаил Кожевников, — он будет шить знамена для повстанцев. Но этим указ не ограничился. Были прощены остальные «непослушные» казаки, участники восстания (2461 человек), которые, по мнению правительства, бунтовали «от сущего невежества и по незнанию истинного своего благоденствия». Беглым обещалось прощение в случае, если они вернутся в течение трех месяцев. Правда, «пряник» для казаков был с изрядной долей горечи. Кроме того, что они должны были вторично принести присягу, их обязывали выплатить огромный денежный штраф — 20 107 рублей 70 копеек, который впоследствии был произвольно увеличен комендантом Яицкого городка Симановым и старшинами до 36 756 рублей. Причем после этого увеличения штраф должны были выплачивать все «непослушные» казаки, в том числе и те, кто не был причастен к бунту, а служил, например, на Кавказе [205] См.: Дубровин Н. Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 155, 156, 183–186; Рознер И. Г. Указ. соч. С. 177–182; Андрущенко А. И. Указ. соч. С. 17, 18.
.
Интервал:
Закладка: