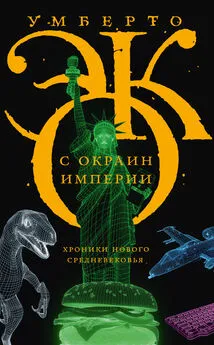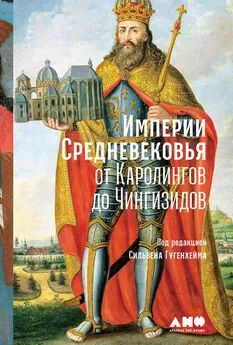Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов
- Название:Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Альпина нон-фикшн
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9437-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сильвен Гугенхейм - Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов краткое содержание
Цель настоящего сборника — охватить единым взглядом схожие между собой политические образования в рамках протяженного хронологического отрезка в планетарном масштабе. Структура изложения материала обусловлена предложенным Гугенхеймом делением империй на три группы: империи-универсумы (такие как империя Каролингов, Византия, Монгольская и Китайская империи и т. д.), империи, изолированные в определенном географическом пространстве (Болгарская, Сербская, Японская, Латинская империя Константинополя, солнечные империи Латинской Америки), а также империи с рассредоточенными территориями (Германская империя Оттонов, Нормандская империя, империя Плантагенетов, талассократические империи Венеции и Шривиджаи).
Статьи авторов, среди которых как именитые ученые, так и яркие молодые исследователи, отличаются оригинальностью подходов, насыщены фактами и выводами, представляющими несомненный интерес не только для специалистов, но и для самого широкого круга любителей истории.
Империи Средневековья. От Каролингов до Чингизидов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Таким образом, каждый член императорского дома, как правило, пользовался определенной автономией в улусе, который ему принадлежит, используя полученные пастбища в интересах своего войска и окружения. Монгольский император, так же как и предводители каждого улуса, управлял кочевниками из временной ставки — «ордо» (от этого названия произошло слово «орда»), перемещаясь преимущественно вдоль рек [125] C. P. Atwood, Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, op. cit., pp. 426–427.
. Рубрук описывает ордо Бату, сына Джучи, как настоящий передвижной город [126] G. de Rubrouck, Itinerarium; Voyage dans l’empire Mongol, op. cit., p. 117. (Рубрук Г. Путешествия в восточные страны / Пер. А. И. Малеина. — М.: Мысль, 1997. С. 92.)
. Порой император останавливался в Каракоруме, но столица была, скорее, городом-складом и производственным центром. Тем не менее подобные передвижения императора и монгольских князей не повторяли образ жизни кочевников-скотоводов, а служили средством контроля и демонстрации власти [127] Christopher P. Atwood, «Imperial Itinerance and Mobile Pastoralism. The State and Mobility in Medieval Inner Asia», Inner Asia, XVII, 2015.
.
Несмотря на развитие удельной системы, империя оставалась целостной и сплоченной. Император регулярно вмешивался в процесс передачи власти в каждом улусе, утверждая таким образом свою власть. Кроме того, уделы выходили за границы традиционных пастбищ и включали в себя новые земли, на которых проживали оседлые народы. Так, например, Чагадай и его потомки помимо земель в Центральной Азии владели Тайюанем в Китае и несколькими городами в Хорезме и Иране. Империя по сути своей была взаимосвязанной сетью улусов, поэтому у каждого монгольского предводителя были свои интересы во всех регионах, что в итоге приводило к установлению коллегиальной власти во главе с императором [128] C. P. Atwood, Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, op. cit., p. 18; P. Jackson, The Mongols and the Islamic World, op. cit., p. 101–104.
. Другим проявлением коллегиальности были большие собрания («курултаи»), которые созывались для принятия важных военных или правовых решений, а также для избрания нового великого хана. То, как формировалось отправляющееся в завоевательный поход войско, также свидетельствует о коллективной природе монгольской власти. При комплектовании войск набиралось одинаковое в пропорциональном отношении число людей из каждого подразделения в улусе, а командование осуществлялось представителями каждой ветви рода Чингизидов. Так, например, была сформирована армия, которую Мунке доверил своему брату Хулагу для уничтожения иранских исмаилитов и покорения багдадского халифа в 1252 г.:
[Мунке] приказал, чтобы из всех дружин Чингисхана, которые поделили между братьями и племянниками, на каждые десять человек выделили бы по два человека… и передали бы их в качестве «эмчу» [собственности] Хулагу, чтобы они отправились вместе с ним и служили бы ему там. Также, выбрав некоторых из своих сыновей, родичей и подданных, отправили бы их вместе с войском на службу Хулагу [129] Rashīd ad-Dīn, Jāmi’ at-tavārīkh, dans Classical Writings of the Medieval Islamic World. Persian Histories of the Mongol Dynasties, vol. III, op. cit., p. 340. (Рашид ад-Дин. Сборник летописей / Пер. Л. А. Хетагурова. Т. 3. — М.; Л.: АН СССР, 1952. С. 24.)
.
Тем не менее власть в Монгольской империи принадлежала не только императору и его родственникам. Нойоны, возглавлявшие наследственные военные и административные ведомства, также претендовали на политическую и экономическую власть, а по мере ослабевания империи они приобретали все большее значение.
Конечно, система управления огромной империей основывалась не только на традициях степи. Монголы освоили управленческие технологии завоеванных государств: чжурчжэньской империи Цзинь в Северном Китае, Каракитайского ханства и Караханидского государства в Центральной Азии, уйгуров в Таримской впадине. У последних монголы заимствовали письменность, а уйгурский стал официальным языком империи до конца XV в. При этом монголы перенимали все разумно и расчетливо, отдавая предпочтение тому, что служило их интересам и соответствовало древним обычаям и политическим нормам. Более того, им удавалось согласовать между собой заимствования самого разного рода и приспособить их к различным политическим и культурным областям, перенося местные административные практики на всю империю. В результате монголы создали оригинальную систему управления, в которой традиции номадов перемешивались с элементами, заимствованными у оседлых государств. Она была очень далека от упрощенных представлений, согласно которым по окончании завоеваний у монголов не было другого выбора, кроме как осесть и освоиться в новой для них среде, став китайцами в Китае или персами в Иране.
Для управления оседлыми территориями монголами были созданы три «передвижных ведомства» («синшэн» на китайском), заимствованные у государства Цзинь: одно — для Китая, второе — для Центральной Азии, третье — для Ирана. Их полномочия распространялись как на земли, подчиненные напрямую великому хану, так и на территории, принадлежавшие его родственникам. Во главе ведомства стоял чиновник, назначавшийся императором, однако каждый из князей также имел в нем своих представителей [130] P. Jackson, The Mongols and the Islamic World, op. cit., pp. 108–110, 117–118.
. Некоторые территории оставались под контролем местных правящих династий, которые добровольно принимали власть монгольских правителей. Их положение чем-то напоминало статус клиентских государств в эпоху поздней Республики и Принципата. На таких условиях монгольскому господству подчинились уйгурское идыкутство Кочо, керманские Кутлугханиды, Салгуриды из Фарса и многочисленные русские княжества. Тем не менее монголы осуществляли строгий контроль над этими землями с помощью своих представителей, которые назывались баскаками (тюркское слово, означающее «надзиратель»). Вероятнее всего, этот институт был заимствован в Каракитайском ханстве. Эквивалентный монгольский термин «даругачи», видимо, предполагал те же полномочия, однако чаще обозначал монгольских представителей в больших городах [131] Ibid., pp. 107–108.
. Эти должности монголы доверяли перешедшим на их сторону китайцам и мусульманам, нередко отправляя их за пределы родного региона. Так, например, хорезмиец Махмуд Ялавач возглавил китайский синшэн в 1229 г., а китаизированный киданин Елюй Ахай в 1221 г. назначен даругачи в Самарканде и Бухаре, а также правителем Трансоксании [132] C. P. Atwood, Encyclopedia of Mongolia and the Mongol Empire, op. cit., pp. 339–340, 599–600.
. Тем не менее большинство высокопоставленных чиновников империи были тесно связаны со степным миром, в частности с уйгурами и киданями, а многие среди них были монголами, например Аргун-ака, возглавлявший иранское ведомство в 1243–1255 гг., и Шиги-Хутуху, то ли приемный сын, то ли названый брат Чингисхана, которого назначили на должность яргучи («судьи»). В его обязанности входило контролировать составление ярлыков и ясаков («законов») [133] Ibid., pp. 21, 464.
.
Интервал:
Закладка:
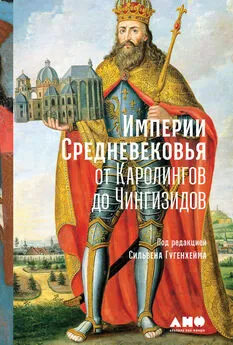
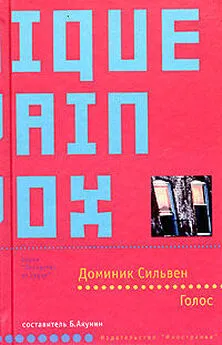
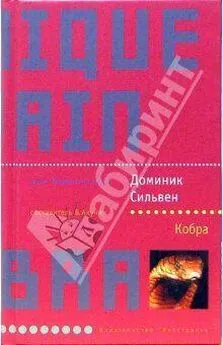
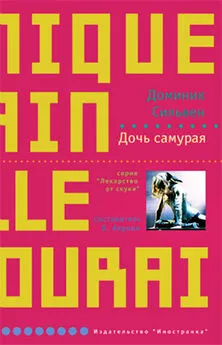
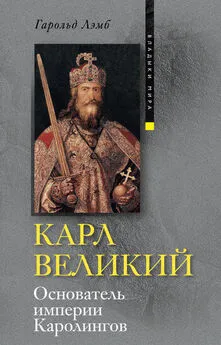
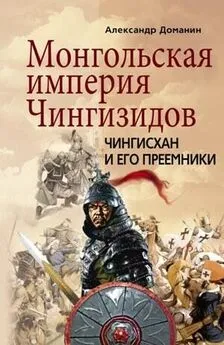
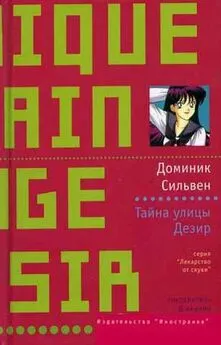
![Филипп Доллингер - Ганзейский союз [Торговая империя Средневековья от Лондона и Брюгге до Пскова и Новгорода]](/books/1071080/filipp-dollinger-ganzejskij-soyuz-torgovaya-imperiya.webp)
![Умберто Эко - С окраин империи. Хроники нового средневековья [litres]](/books/1150337/umberto-eko-s-okrain-imperii-hroniki-novogo-sredn.webp)