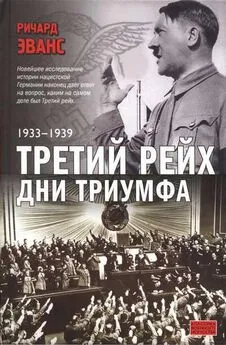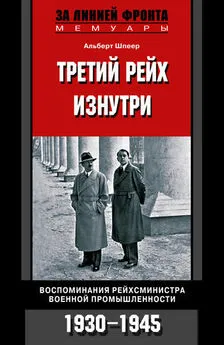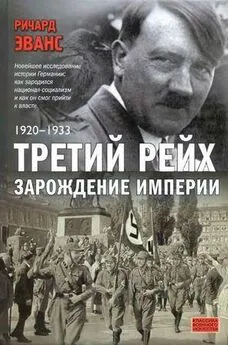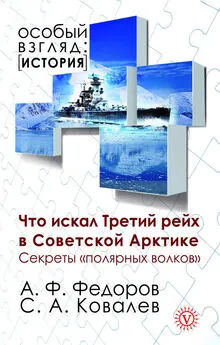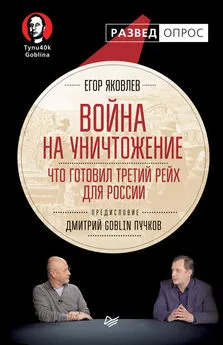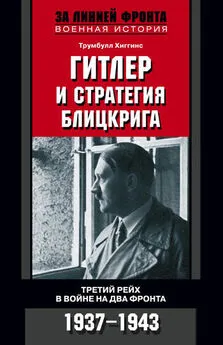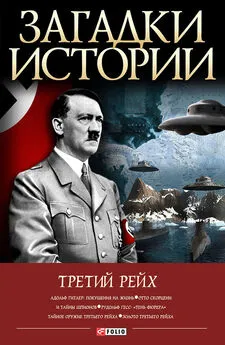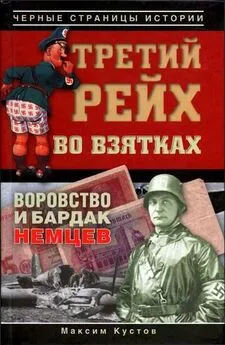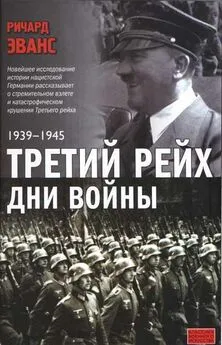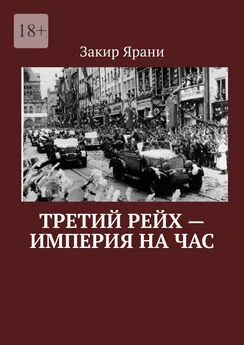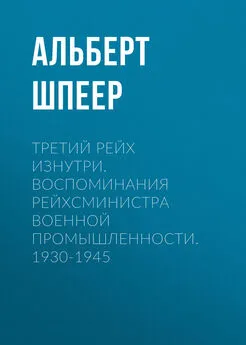Ричард Эванс - Третий Рейх. Дни Триумфа. 1933-1939
- Название:Третий Рейх. Дни Триумфа. 1933-1939
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ООО «Агентство прав «У-Фактория»; ООО «Издательство Астрель»
- Год:2010
- Город:Екатеринбург
- ISBN:978-5-271-30709-6, 978-5-9757-0532-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ричард Эванс - Третий Рейх. Дни Триумфа. 1933-1939 краткое содержание
Трилогия Ричарда Эванса — захватывающее и в то же время крайне подробное и исторически достоверное повествование о самой трагической эпохе в немецкой и европейской истории прошлого века.
Третий Рейх. Дни Триумфа. 1933-1939 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Подавляющее большинство судей и прокуроров не выражало по поводу этих действий особых сомнений, хотя один из бюрократов-консерваторов из Имперского министерства юстиции на полях черновика статистики исполнения смертных приговоров сделал пометку о том, что одному человеку, казненному 28 сентября 1933 года, было только 19 лет, и что была выражена международная озабоченность количеством помилований приговоренных коммунистов, таких как бывший депутат Рейхстага Альберт Кайзер, казненный 17 декабря 1935 года. Женщины теперь тоже могли оказаться на плахе, что было невозможно в Веймарской республике, первой среди таких женщин стала коммунистка Эмма Тиме, казненная 26 августа 1933 года. Она и многие другие стали жертвами целого ряда новых законов, предписывающих высшую меру наказания, сюда входит закон от 21 марта 1933 года, дающий право приговорить к смерти любого, кого признают виновным в угрозе причинения вреда собственности с целью вызвать панику; закон от 4 апреля 1933 года, предусматривавший смертную казнь за акты саботажа; закон от 13 октября 1933 года, карающий смертью за предумышленное убийство любого государственного или партийного чиновника, и другой, пожалуй самый значимый из всех названных, закон от 24 апреля 1933 года, вводивший обезглавливание как наказание для любого, кто планировал изменить конституцию или силой отделить любую часть Германии от рейха, или участвовал в заговоре с такой целью. То есть каждый, распространявший листовки («планирование»), критикующие диктаторскую политическую систему («конституцию»), теперь мог быть казнен; а на основании закона, принятого 20 декабря 1934 года, при особых обстоятельствах это могло произойти и с теми, кто произносил «ненавистнические» высказывания, в том числе шутки, о людях, занимающих высшие посты в партии и в государстве [126] Lothar Gruchmann, Justiz im Dritten Reich, 1933 — 1940: Anpassung und Unterwerfung in der Ara Gurtner (Munich, 1988), 897-8; Martin Hirsch et al. (eds.), Recht, Verwaltung und Justiz im Nationalsozialismus: Ausgewahlte Schriften, Gesetze und Gerichtsentscheidungen von 1933 bis 1945 (Cologne, 1984), 421-556; Eduard Kohlrausch (ed.), Deutsche Strafgesetze vom 19. Dezember 1932 bis 12. Juni 1934 (Berlin, 1934); Evans, Rituals, 624-50; и в особенности Bernward Domer, «Heimtücke»: Das Gesetz als Waffe: Kontrolle, Abschreckung und Verfolgung in Deutschland, 1933 — 1945 (Paderborn, 1998). For the judges, см. Ralph Angermund, Deutsche Richterschaft 1919 — 1945: Krisenerfahrung, Illusion, politische Rechtssprechung (Frankurt am Main, 1990).
.
Руководил этим восстановлением и расширением применения высшей меры наказания имперский министр юстиции Франц Портнер, который был не нацистом, а консерватором, в 1920 году он занимал пост министра юстиции Баварии и уже успел побывать имперским министром юстиции в кабинетах Па-пена и Шлейхера. Как и большинство консерваторов, Гюртнер горячо поддержал силовые методы устранения беспорядков, происходивших в 1933 и 1934 годах. После «Ночи длинных ножей» он занимался подготовкой законодательства, задним числом санкционирующего убийства, и пресек попытки некоторых местных обвинителей начать против убийц судебные разбирательства. Портнер верил в эффективность писаного права, каким бы драконовским оно ни было, он быстро организовал комиссию, которая исправила Имперский уголовный кодекс 1871 года с учетом особенностей Третьего рейха. Как выразился один из членов комиссии, криминолог Эдмунд Мезгер, их целью было объединить «принцип ответственности личности перед своим народом и принцип расового совершенствования народа как целого» [127] Edmund Mezger, Kriminalpolitik auf kriminologischer Grundlage (Stuttgart, 1934), v.
. Комиссия заседала по многу часов и составляла объемистые проекты, но она была не в состоянии поспевать за той скоростью, с которой совершались уголовные преступления, и юридический педантизм ее рекомендаций был совсем не по душе нацистам, которые никогда им не следовали [128] Gruchmann, Justiz, 822-924; Jurgen Regge and Werner Schubert (eds.), Quellen zur Reform des Straftmd Strafprozessrechts, 2. Abteilung: NS-Zeit (1933 — 1939) — Strafgesetzbuch, I: Entwürfe eines Strafgesetzbuchs; II: Protokolle der Strafrechtskommission des Reichsjustizministeriums (2 vols., Berlin, 1988-9).
.
Тем временем судебная система испытывала все большее давление со стороны нацистов, которые жаловались, как, например, Рудольф Гесс, на «абсолютно не национал-социалистические тенденции» в некоторых судебных решениях. Прежде всего по жалобам Рейнгарда Гейдриха суды общей юрисдикции продолжали выносить «врагам государства» приговоры, «слишком мягкие по нормальным народным ощущениям». Для нацистов целью закона было не применение устоявшихся принципов правды и справедливости, а искоренение врагов государства и выражение истинного расового чувства людей. Как утверждалось в манифесте, выпущенном в 1936 году под именем Ганса Франка, имперского комиссара юстиции и главы Национал-социалистической лиги юристов: «Судья не ставится над гражданами как представитель государственной власти, но является членом живого германского общества. Он не призван навязывать закон, стоящий выше народного сообщества, или систему всеобщих ценностей. Его задача — охранять определенный порядок в расовом сообществе, устранять опасные элементы, преследовать все вредные для сообщества действия и разрешать разногласия между членами сообщества. Национал-социалистическая идеология, в особенности выраженная в программе партии и в речах нашего вождя, является основанием для интерпретации юридических источников [129] «Rede des Reichsrechtsfuhrers Reichsminister Dr. Frank auf dem zweiten Empfangsabend des Wirtschaftsrates der Deutschen Akademie in Berlin über die Grundlagen der nationalsozialistischen Rechtsauffassung», 21 January 1936: document no. 59, in Päul Meier-Benneckenstein (ed.), Dokument der deutschen Politik (6 vols., Berlin, 1935-9), IV Deutschlands Aufstieg zur Grossmacht 1936, 33746.
.
Но суды общей юрисдикции, судьи и прокуроры, какое бы суровое наказание они ни назначали коммунистам и другим политическим преступникам, никогда не следовали этому принципу до конца, ведь это бы потребовало отмены всех правил правосудия и превращения уличной жестокости периода до 1933 года в государственный принцип.
Никак не противясь полиции и СС, выводящих преступников за рамки судебной системы, не жалуясь на склонность гестапо арестовывать заключенных сразу же после их освобождения из-под стражи и помещать их прямо в концентрационные лагеря, руководители судебных, юридических и карательных служб с радостью сотрудничали в этом всеобщем процессе низвержения нормы права. Государственные обвинители передавали преступников в лагеря, когда им не хватало доказательств или когда они не могли предстать перед судом по какой-либо другой причине, например, из-за того, что были слишком молоды. Судебные чиновники выпускали положения, предписывающие начальникам тюрем рекомендовать опасных заключенных (в особенности коммунистов) для помещения их под превентивный арест, что они и делали с тысячами осужденных. Например, в одной тюрьме, в Луккау, в группе из 364 заключенных, выбранных для исследования одним историком, 134 человека по четкой рекомендации руководства тюрьмы, как только они отбыли свое наказание, были переданы в гестапо [130] Klaus Drobisch, «Alltag im Zuchthaus Luckau 1933 bis 1939», in Dietrich Eichholtz (ed.), Verfolgung, Alltag, Widerstand: Brandenburg in der NS-Zeit: Studien und Dokumente (Berlin, 1993), 247-72, 269-70.
. Работу этого принципа продемонстрировал начальник тюрьмы в Унтермассфельд, писавший 5 мая 1936 года тюрингскому гестапо про Макса К., типографского рабочего, которого в июне 1934 года приговорили к двум годам и трем месяцам заключения за его причастность к коммунистическому подполью. К. хорошо вел себя в тюрьме, но начальник тюрьмы и ее сотрудники проверили его семью и связи и не поверили, что он начал жизнь с нового листа. Он сообщал гестапо:
Интервал:
Закладка: