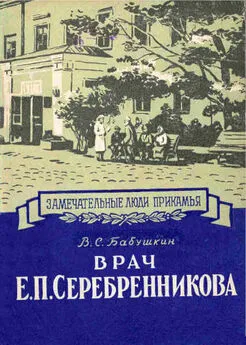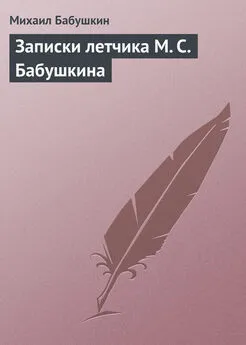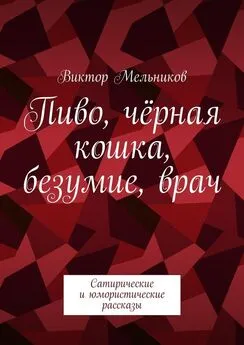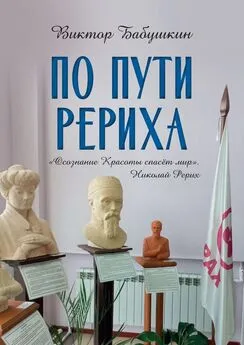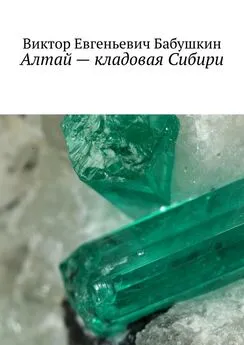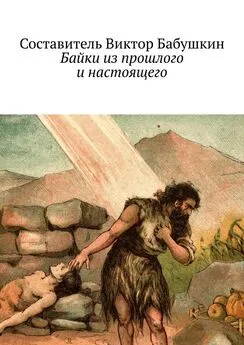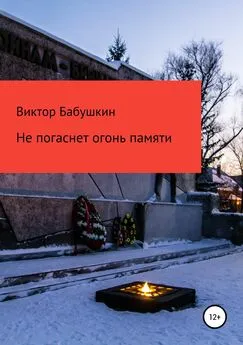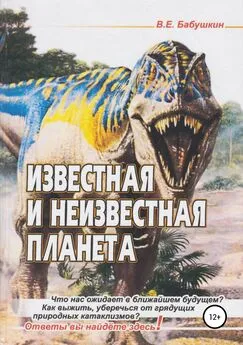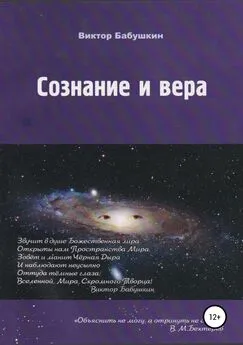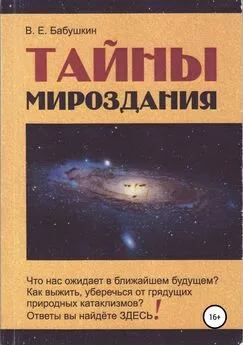Виктор Бабушкин - Врач Е. П. Серебренникова
- Название:Врач Е. П. Серебренникова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Пермское книжное издательство
- Год:1957
- Город:Пермь
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Бабушкин - Врач Е. П. Серебренникова краткое содержание
Врач Е. П. Серебренникова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Серебренниковых давно привлекала деятельность врача Петра Васильевича Рудановского. Павел Николаевич слышал о нем еще в детстве. Позднее, работая у Грубера, он познакомился с исследованиями Рудановского по анатомии и гистологии нервной системы, с его замечательным атласом нервной системы, изданным в Париже, узнал, что Рудановский впервые применил в гистологии приготовление срезов из замороженных тканей. И все это Петр Васильевич успевал делать помимо своей основной деятельности: он отвечал за работу медицинской части демидовских заводов Тагильского горного округа. Рудановский организовал неплохую медицинскую помощь населению в своем районе, создал музей, библиотеку, написал целый ряд научных работ, вместе с П. В. Кузнецким открыл в Нижнем Тагиле фельдшерскую школу. Он был известен далеко за пределами Урала.
В первых числах января 1880 года Павел Николаевич ездил в Нижний Тагил к Рудановскому.
Его встретил крупный мужчина лет пятидесяти с высоким лбом и усталыми добрыми глазами. Серебренников заметил, что лицо у Петра Васильевича бледное, одутловатое. «Не легко, видимо, ему», — подумал Павел Николаевич.
Беседа была не очень долгой, но содержательной. Рудановский покорил слушателя своей убежденностью, неподдельной страстностью. Молодой врач понравился Петру Васильевичу, и он предложил ему работу в Нижне-Салдинском заводе. Серебренников высказал свои опасения относительно научной работы.
— Это вы зря, батенька, — запросто сказал Рудановский. — Все будет от вас зависеть. Приезжайте на Урал — и все тут. Не пожалеете…
Петр Васильевич вспомнил свою молодость, все свои пути и дороги к науке и тяжело вздохнул. Потом он продолжал:
— Вы здесь встретите много неполадок, но никогда не действуйте по первому импульсу. Осмотрительность, осторожность — прежде всего. Они помогут вам избежать многих ошибок. Не старайтесь показать, что вы умнее окружающих. Люди будут ценить, уважать ваш ум, но не ждите от них каждый день, симпатии, откровенности. Для сближения с ними нужны непосредственность и душевное расположение. Местное начальство, пока вы ему поддакиваете и ничего нового не предлагаете, будет довольно вами. Но чуть вас заинтересует научная постановка дела, едва лишь заикнетесь о помощи народу вообще и выйдете за рамки определенного вам круга действий, вас постараются не понять, будто вы говорите на ином языке. Неизвестно откуда появятся препятствия, недовольство вами, какое-то отчуждение. Да что там…
Рудановский повел своей большой жилистой рукой в сторону окна, за которым наполовину в снегу чернели домики рабочего поселка:
— Лишь бы они понимали…
Павел Николаевич, ненадолго заехав в Пермь, возвратился в Петербург. Супруги твердо решили принять предложение Рудановского. После окончания Евгенией Павловной врачебных курсов они приехали в Нижне-Салдинский завод.
Больница, которую приняли под свое начало Серебренниковы, представляла убогое зрелище. Работавший здесь фельдшер жил где-то на окраине поселка и очень редко бывал в больнице. Больничный смотритель запустил все хозяйство. Предоставленные самим себе, больные утром разбредались по домам и приходили в больницу поздно вечером, часто пьяными. Многие сами назначали себе лечение, лечились у знахарей.
Серебренниковы взяли на себя все хозяйственные заботы. Они отремонтировали больницу, установили порядок в ней.
Население быстро привыкло к молодым врачам. Оно потянулось к ним не только с жалобами на недуги, но и за юридическими советами, с просьбами о материальной помощи.
Через несколько месяцев Серебренниковы по приглашению Ирбитской городской управы, а также идя навстречу пожеланиям родственников, переезжают в Ирбит. В письме к своему гимназическому учителю А. В. Кролюницкому Евгения Павловна так рассказывала об этом периоде жизни: «Кончила я курс в 80-м году и, полные желания служить народу, я и мой муж бросили Питер, где муж был на профессорской дороге (уже ассистентом), поехали в завод Салду. Как теперь помню я момент въезда, когда я, увидав множество (в заводе 12000 жителей) покосившихся избушек, дала молча себе слово быть другом в каждой из них. При приложении этой задачи на практике мне частью пришлось узнать и радость и горе. Радость была та, что народ, и не только бабы, но и мужики, отнеслись ко мне, как к врачу, с полным доверием. Горе же заключалось в том, что сойтись, слиться с народом, как мечтали мы в Петербурге, у меня не оказалось никакой способности. Все выходило искусственно. Чутье подсказало, что лучше не притворяться, а быть самой собой. Муж же мой как нельзя лучше был в этой роли.
Прожили мы там хорошо, но недолго. Полюбил нас и народ, и интеллигенция местная, но просьбы родных перетянули на Ирбит, и с горькими слезами, провожаемая множеством людей, рассталась с Салдой, о которой и теперь вспоминаю с самым лучшим чувством.
По приезде в Ирбит картина совершенно меняется. Те радости, которые удовлетворяли меня в Салде, исчезли: довольство от успеха лечения — потому, что я уже чувствовала себя тверже и привыкла, что так и следует быть; а радости по случаю излечения пациента — потому, что контингент их стал другой и самый несимпатичный: мещане, купцы, гоголевские чиновники, которые норовят потом тебя же обвинить, осудить, почесать язычок. Редко попадалась симпатичная семья из среднего или простого класса, где можно было отдохнуть душой и где после леченья устанавливалась и нравственная связь. Кроме того, стала чувствоваться тяжесть частной практики (я ведь была не на службе), вследствие несоразмерности траты времени с продуктивностью труда и вследствие невозможности вести свое дело научно, как, например, в больнице; приходилось подчиняться обстановке, капризу и проч. Все это было и в Салде, но сгоряча многое не замечалось и затушевывалось суждением, что служу рабочему человеку…
Зато в другом отношении Ирбит дал то, чего не было в Салде, — это так называемая общественная деятельность. Муж мой в качестве городского врача должен был заботиться о санитарном улучшении города. По поводу этого ему приходилось и много говорить, и писать, и сталкиваться со всеми представителями города, наживать и друзей и врагов, и и противников, и адептов. Я тоже принимала в этом участие. Кроме того, сблизились с молодежью, с учителями городскими и сельскими. Я готовила несколько девушек в фельдшерицы, муж читал на учительском съезде анатомию и гигиену, и благодаря всему этому у нас образовался большой и тесный кружок молодых и уже солидных людей с хорошими стремлениями. Теперь я с хорошим удовольствием вспоминаю эти три года, которые жили в Ирбите».
Медицинское обслуживание, и особенно санитария, в Ирбите находилось в плачевном состоянии. За период с 1801 по 1871 год здесь на каждые сто рождений приходилось 99 смертей, а с 1864 по 1871 год — даже 120 смертей. Население города и уезда страдало из-за тяжелых антисанитарных условий. Ежегодная Ирбитская ярмарка способствовала увеличению заболеваемости.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: