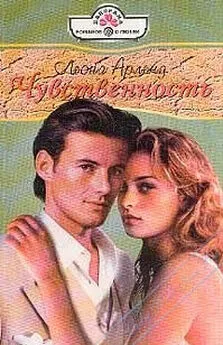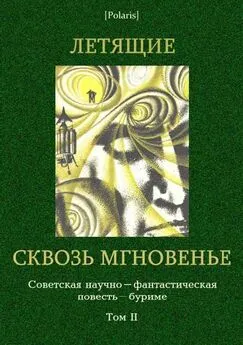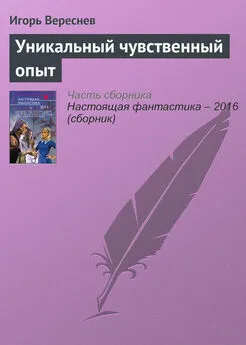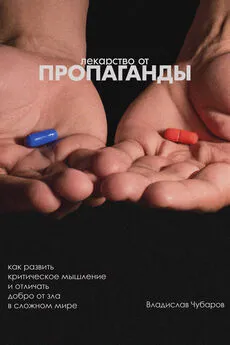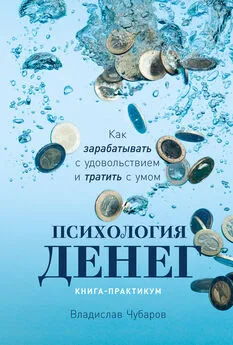Игорь Чубаров - Коллективная чувственность
- Название:Коллективная чувственность
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Высшая школа экономики»
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1095-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Чубаров - Коллективная чувственность краткое содержание
Книга адресована широкому кругу гуманитариев – специалистам по философии литературы и искусства, компаративистам, художникам.
Коллективная чувственность - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Событие революции было как бы закреплено и проявлено в этом перформансе на уровне образа. Тот же С.М. Эйзенштейн наверняка опирался в своем «Октябре» на документированную в хрониках постановку Евреинова, хотя позднее и оспаривал это [185]. Именно через нее вспоминали и воспринимали революцию ближайшие поколения. Кроме того, Евреинов доказал этим перформансом бесперспективность «жизненного» натуралистического театра, стремящегося изобразить, эстетизировать действительность. Напротив, сама действительность изображала его театральный принцип в тот вечер 1920 г.
Но в этой работе можно выделить и другой политический провокативный момент: идея тотального театра, спроецированная на символический локус революционного Петрограда при огромном скоплении народа, могла подменить собой событие реальной революции, встать на ее место, сохраняя, однако, театральный характер. В этой постановке Евреинов предложил способ перетекания искусства в «политику» – без многолетней подпольной партийной работы, без ссылок и каторги, без массовых убийств и грабежей. Власть просто переходит в руки народа, который лишь «играет» в революцию, разрешенную властями в качестве театральной постановки.
Ибо эффект от инсценирования и повтора события непредсказуем, особенно если в нем оказывается затронутой реальность группового желания. Такая составляющая театральной машины, как массовка, становится массой и может осознать свою силу и повторить революцию уже в отношении новой власти – потому что повтор всегда различает.
Характерно, что устроители видели в этой постановке начало нового театра массовых действий. Так, К.Н. Державин, один из ее режиссеров, в статье «Чудо» в газете «Известия» восторженно писал: «Секрет сценической толпы раскрыт, и в нашей воле теперь подойти к замечательным возможностям и открытиям. Масштабы удалось развернуть поистине мировые. Постановку “Взятие Зимнего дворца” аршином действительности измерить нельзя, в осуществление же ее можно было только верить со страхом и упованием. То, что было осуществлено на глазах тысячных зрителей – является чудом, которое могло произойти только в России, в стране титанических возможностей» [186].
После 1920 г. подобные постановки перешли в ведение гражданских культурных учреждений, сократились в масштабе, снизились до уровня народных гуляний, демонстраций и военных парадов. Именно возможность не просто репереживания, но и повтора революции как открытой возможности, связанной с неустранимым ни в одном обществе противоречием между сформированным социальным укладом и неудержимым техническим и культурным прогрессом, почувствовали советские власти, и прежде всего поэтому подобные мероприятия в дальнейшем уже не повторялись.
Но в 1920 г. народ еще мог позволить себе не просто потреблять искусство, но и создавать его, активно участвовать в истории, т. е. одновременно быть и ее субъектом, и ее объектом. Поэтому существование подобных постановок может служить индикатором свободы в обществе [187].
Как известно, ситуация в Советской России очень скоро радикально изменилась. Евреинов в 1923 г. отправился за русскими религиозными философами в вынужденную эмиграцию, где стал активно заниматься кино и вступил в масонский орден, ставший для него последним прибежищем «театральных преображений» [188].
В архивных материалах Евреинова встречается еще одна важная тема – об отношениях единицы и массы в массовой театральной постановке.
Один из режиссеров «белой» площадки и ближайший коллега Евреинова по дореволюционному театру «Кривое зеркало» А. Кугель предлагал представить Керенского 25 артистами, которые бы механически одновременно выполняли все его сценические движения. Евреинов возразил, что это преувеличит образ жалкой одинокой «пешки Истории», пытавшейся противопоставить свою волю воле восставшего пролетариата.
А. Кугель боялся, что один человек не будет различим на огромной сцене и на большом расстоянии в толпе других актеров. Евреинов в своих воспоминаниях цитирует статью того же К. Державина «Масса как таковая»: «Самое главное: противопоставление одной фигуры толпе. Керенский, удачно воплощенный известным киноактером тех лет Бруком, занимавший место то на фоне тесно сомкнутых юнкерских рядов, то поднимавшийся над стеснившейся у его кресла перепуганной толпой, послужил контрастирующей единицей по отношению к пятну остальных участников действа. […] Массовый театр является театром исключительно пристрастным ко всякому корифейству и протагонизму. Наличие отдельного исполнителя, сосредотачивающего на себе в известный момент внимание зрителей, подчеркивает массовую законченность всего ансамбля. Практика вполне оправдала это положение» [189].
Таким образом, можно сказать, что массовая постановка в таком понимании не означала отказа от личностного начала, ценности индивидуальной жизни и прочих либеральных ценностей в пользу каких-то общественных, «соборных», коммунистических утопий и массовидных образов [190].
Борис Гройс в свое время сформулировал идею амбивалентной взаимосвязи философии раннего Михаила Бахтина, Густава Шпета, Андрея Белого, Вячеслава Иванова и идеологии русского авангарда в целом с тоталитарным Gesamtkunstwerk Сталина. По мысли Гройса, опора определенных художников и мыслителей на ницшеанскую идею «воли к власти», отрицание позиций субъективности, «Я» в пользу безличной дионисийской стихии не позволила им выработать эффективную альтернативу надвигающейся сталинской идеологии и культуре, также эксплуатировавшей «ницшеанские мотивы». Поэтому «хотя все характеризованные выше авторы и были вытеснены и подавлены официальной культурой, их ошибочно рассматривать в терминах морально-политической оппозиции к этой культуре» [191].
На основании приводимых Гройсом в защиту данного скандального вывода аргументов в эту почтенную компанию можно включить и проект «театрализации жизни» Н. Евреинова. Но у Евреинова речь шла не об отказе от «Я», а о замене этого навязанного Другим образа субъективности на сознательно выбранную маску, в разрыве между осознанием условности которой и невыразимым «Я»-чувством можно было бы разместить Другого и соблюсти таким образом его индивидуальные права.
Более того, видимое противоречие между евреиновской идеей универсальной театральности, массового вовлечения зрителя в искусство и теорией «театра для себя», воплощенной в монодраме, домашних спектаклях, а затем и в предсказанном Евреиновым еще до революции home video [192], снимается в рассмотрении этой проблемы во времени, т. е. в исторической перспективе. В последней практической части «Театра для себя» Евреинов писал: «Индивидуальное в человеке, уступив временно соседствующему с ним соборному началу чуть не всего себя целиком, – по достижении социального благополучия, подсказавшего эту уступку (Курсив мой. – И. Ч. ), вновь возвращается, в известной сфере и в определенно назревший момент […]. Таков ход человеческой эволюции» [193].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: