Збигнев Залуский - Сорок четвертый
- Название:Сорок четвертый
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Воениздат
- Год:1978
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Збигнев Залуский - Сорок четвертый краткое содержание
Подробно излагая ход боевых действий по освобождению Польши от фашистских захватчиков, З. Залуский, сам прошедший дорогами войны с Войском Польским до Берлина, особо подчеркивает решающий вклад Советского Союза и его Вооруженных Сил в разгром гитлеровской Германии и освобождение Польши.
Основываясь на документах, литературных произведениях, личных переживаниях, автор живо и красочно рассказывает о событиях и явлениях того бурного времени. В поле зрения автора исторические факты различного масштаба: от официальных политических акций до личных судеб простых людей, от фронтовых операций до боев отдельных партизанских отрядов.
Сорок четвертый - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Там, на Замойщине, до сих пор можно услышать разговоры о боях над Таневом, до сего дня вопрос этот сохраняет болезненную остроту. Подобно тому, как в Варшаве — вопрос о восстании. Но говорят не о славе. Говорят о тайне кладбища под Осухами.
Сам ход событий, свидетельства участников однозначно определяют виновников: командование отрядов, замойский инспекторат, лично майор Калина (Эдвард Маркович).
Но ведь дело далеко не так просто. Это командование, эти люди имели славное патриотическое и боевое прошлое, они не раз жертвовали собой, проявляли немало воли и умения.
«Ведь, по сути дела, майор Калина был антигитлеровцем, — напишет позже полковник Прокопюк, не имевший слишком больших причин хвалить офицера АК. — Он много лет участвовал в подпольной деятельности. Его брат, поручник Скала, был зверски замучен во время следствия в гестапо. Ничего плохого нельзя сказать и о поручнике Вире, семью которого — отца, мать и сестру — гитлеровцы публично казнили в Юзефуве…» {74} 74 N. Prokopiuk, op. cit., s. 256—257.
.
И все же еще там, в болоте под Студзеницей, под дождливым небом пронесся крик: «Измена!» Какое детское объяснение всех проигранных битв!
Позднее писали о самоуверенности и заносчивости «вояки», «пана майора». Дешевая это ирония.
Говорили также, что, потрясенный смертью близких, больной, истощенный в результате недавно перенесенной тяжелой операции, он сломался физически и морально. Что струсил — такого не говорил никто.
Возможно, он действительно пришел в себя лишь в сумерки 24 июня, когда эхо боя под Боровцом показало, что теперь он остался в одиночестве. Только тогда он сказал, что отдает себе отчет, что берет ответственность на себя, что готов нести ее. Менее чем через 24 часа он покинул свою инспекторскую бричку и ушел в сгущавшуюся темноту, навстречу своей невыясненной судьбе. Куда? Один из участников событий вспоминал, что позднее, при встрече в лесу, майор просил: «Ребята, когда придут немцы, обращайтесь ко мне не «пан майор», а только «пан капрал». Другой участник говорил, что шел за инспектором целый час — три с половиной километра от брода на Студзенице до обгоревшей автомашины, что на Бычьей дороге. Майор был невменяем, шел как слепой, натыкался на деревья, ничего не слышал и ни на что не реагировал…
Может, так и не пришел в себя, так и остался по-прежнему невменяем… Может, размышлял…
…Всю жизнь он был офицером. Всю жизнь он был всего лишь офицером административной службы. Строго говоря, военным чиновником. Двенадцать лет — капитаном. Продвижения никакого. Но он был нужен. Добросовестный. На него можно было положиться. На другой день после поражения ушел в подполье. Просто, как по утрам уходят на работу. Через три года дождался. Его послали инспектором. Четыре уезда, лес, переполненный вооруженными людьми. Национальное восстание или крестьянский бунт? Приказали успокоить. Навести порядок. Поставить в рамки. Объединить. Для законной власти. Разве он не навел порядок? Разве ершистые в прошлом боевые отряды не приобрели, став ротами 9-го пехотного полка АК, воинского вида и готовности повиноваться, осторожности, умеренности в действиях?.. Разве плохо выглядела прежняя варшавская диверсионная рота, одетая теперь в английские мундиры, которую он превратил в охрану штаба и склада? Склады достались немцам… Кто-то возмущался по этому поводу. Скшипек, Антон или взводный Вархал, который командовал этим крестьянским батальоном? Что не дал им оружия?.. Так оно было предназначено на случай мобилизации для правительственных отрядов, а не для крестьянского войска, которое не хотело превращаться в регулярную армию. Таков был приказ, и он лишь выполнял его. Добросовестно. Было сказано: «Сосредоточить отряды, мобилизовать, создать представительную силу, чтобы было что показать большевикам». Потом пришли дополнения: «Не связываться, как можно дольше действовать самостоятельно, лишь бы не поддаться на сотрудничество с большевиками». Он не поддался. Приказ выполнил. Наверняка лучше, чем те, на Волыни. Оттуда три батальона пошли к русским, а потом хуже того — к Берлингу, к польским коммунистам. Он не дал себя соблазнить, связать совместной борьбой… Большевики ушли… Были слышны выстрелы.
А что дальше? Этого в инструкциях не было сказано. Об этом не говорилось в плане «Буря». Этого он уже не знает. 1200 человек… Две трети того, чего достиг инспекторат… Люди, участвовавшие еще в первом восстании, из-под Войды и Заборечна, с которыми было столько хлопот. Люди, которые захватывали Билгорай и Юзефув, освобождали заложников… А о брате, который сидел тогда в гестапо, никто из них не подумал. Девушек — да, тех отбивали из тюрьмы… Восемь рот и крестьянский батальон… Это итог работы. А склад так и пропал…
Ответственность? Он никогда не уклонялся от ответственности.
У него всегда все было в порядке. Сальдо сходилось. Сойдется и на этот раз…
И это все, что нам известно о судьбе этой, по сути дела, трагической личности — исполнителя и одновременно жертвы приговора, вынесенного теми, кто расставлял пешки в этой игре.
Для игры, но не для борьбы.
Трагедия в урочище Мазяже — соединительное и промежуточное звено на пути от демонстрации к катастрофе, от концепции плана «Буря» к варшавским развалинам. Звено, соединяющее волынский пролог и варшавский финал. Предпосылки этой трагедии уже были скорректированы с учетом опыта Волыни: жаждущих бороться — сплотить, объединить, но не для того, чтобы бороться, а для того, чтобы устроить демонстрацию против освободителей. С левыми силами не объединяться, с советской стороной не вступать в контакты, ибо именно перед ней надо выступать «в роли хозяина» — носителя права, силы и суверенитета. Всегда поддерживать готовность к такой демонстрации, а следовательно, состояние обособленности, сохранять безотносительно к тому, что могло бы произойти, своего рода «оперативную свободу», свободу перехода к следующему этапу деятельности. Но самое главное — не объединяться.
Ибо признание необходимости сотрудничества батальонов обеих армий на поле боя стало бы выражением необходимости сотрудничества обоих государств на более широком поле — поле истории.
Майор Калина выполнил поставленную задачу точно и до конца. Добросовестно и последовательно. Когда группировки АЛ и советских партизан вырвались из окружения, он остался один. Наконец-то! Остался как неоспоримый «хозяин пущи», руководитель объединенного страхом войска и отчаявшегося населения… Но как долго можно оставаться хозяином в аду? И тут стало очевидно, что он ничего не может предложить ни войску, ни населению. И тогда он ушел. Слишком поздно.
Те, кто приняли руководство после него, тоже уже слишком поздно, действовали в вынужденной, безвыходной ситуации, в ловушке, в обстановке хаоса и краха. Спасти можно было лишь немногое: несколько десятков человеческих жизней, свою собственную офицерскую честь, солдатское достоинство, честь мундира, который носили, свое достоинство человека — умение оставаться человеком до конца, до последней минуты. В миниатюре — судьба Варшавы. Модель судьбы всей Польши — такой, какой она могла бы стать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


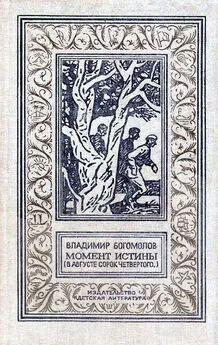

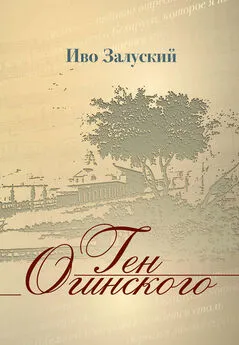
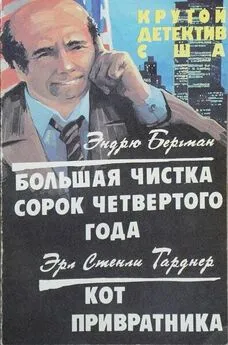
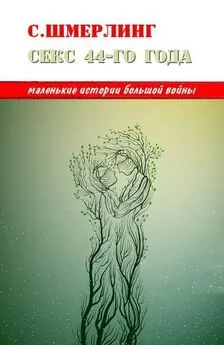
![Владимир Перстнев - Жаркий август сорок четвертого [К 70-летию Ясско-Кишиневской операции и освобождения г. Бендеры от фашистских захватчиков]](/books/1076104/vladimir-perstnev-zharkij-avgust-sorok-chetvertogo-k-70-letiyu-yassko-kishinevskoj-operacii-i-osvobozhdeniya-g-bendery-ot-fashistskih-zahvatchikov.webp)
![Анатолий Никаноркин - Сорок дней, сорок ночей [Повесть]](/books/1086820/anatolij-nikanorkin-sorok-dnej-sorok-nochej-poves.webp)
