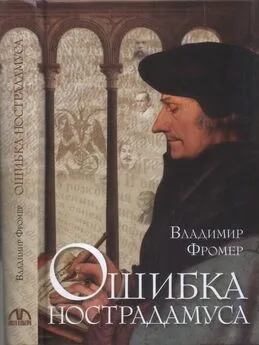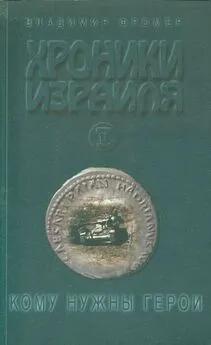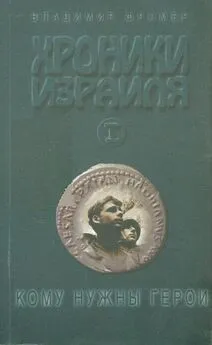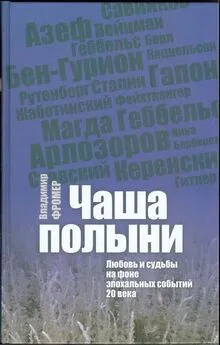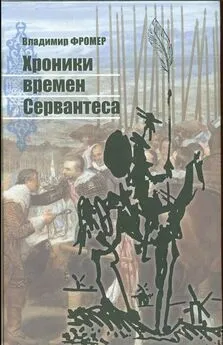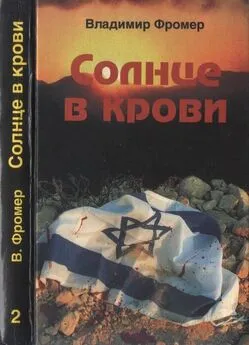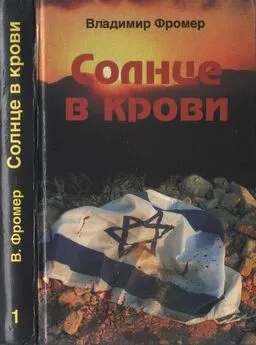Владимир Фромер - Ошибка Нострадамуса
- Название:Ошибка Нострадамуса
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мосты культуры
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93273-505-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Фромер - Ошибка Нострадамуса краткое содержание
В книге «Ошибка Нострадамуса» несколько частей, не нарушающих ее целостности благодаря единству стиля, особой ритмической интонации, пронизывающей всю книгу, и ощутимому присутствию автора во всех описываемых событиях.
В первую часть ЗЕРКАЛО ВРЕМЕНИ входят философские и биографические эссе о судьбах таких писателей и поэтов, как Ахматова, Газданов, Шаламов, Бродский, три Мандельштама и другие. Эта часть отличается особым эмоциональным напряжением и динамикой.
В часть ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ входят жизнеописания выдающихся исторических персонажей, выписанных настолько колоритно и зримо, что они как бы оживают под пером автора.
В часть КАЛЕЙДОСКОП ПАМЯТИ вошла мемуарно-художественная проза, написанная в бессюжетно-ассоциативной манере.
В книгу включены фрагменты из составляемой автором поэтической антологии, а также из дневников и записных книжек разных лет.
Ошибка Нострадамуса - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Странный поступок для антисемита.
Ахматову Толстой по-своему любил, потому что она была связана с его безвозвратно ушедшей молодостью. С годами он все чаще с грустной нежностью вспоминал и поэтов Серебряного века, над которыми всласть поглумился в «Хождении по мукам», и свои ранние стихи, и «Аполлон», и «Бродячую собаку». Ахматова душевно была ему гораздо ближе, чем Фадеев, Симонов, Шолохов и иже с ними.
В Ташкент Алексей Толстой прибыл в декабре 1941 года по поручению Фадеева. В Москве на самых верхах было решено издать сборник военных стихов польских поэтов. Это была политическая акция. Сталин вел с эмиграционным польским правительством Владислава Сикорского хитроумную игру. Под Ташкентом находился штаб генерала Андерса, в котором отдел пропаганды и просвещения возглавил Юзеф Чапский. Это официально, а неофициально генерал Андерс поручил ему разыскать хоть какие-нибудь следы пятнадцати тысяч польских офицеров, без вести пропавших на «бесчеловечной земле». Тогда еще никто не знал, что все они расстреляны в Катыне войсками НКВД.
В Ташкенте Толстой сразу стал местной достопримечательностью. Его колоритная внешность бросалась в глаза: барственный вид, элегантный, сшитый в Париже костюм, трубка в зубах, на голове берет, роговые очки с большими стеклами, инкрустированная трость. В Ташкенте ничего подобного не видывали.
Толстой находился тогда в зените славы. Академик, депутат, орденоносец. Сталин был вне себя от радости, прочитав его повесть «Оборона Царицына», где Толстой с присущим ему мастерством изобразил Сталина, поучающего впавшего в панику Ленина в 1918 году. У Толстого появился открытый счет в банке — этим могли похвастаться только Горький и авиаконструктор Туполев до своего ареста. Сталин подарил Толстому особняк князя Щербатова в Москве. Наградил орденами и премиями.
Было в его характере что-то и от Рогожина, и от Остапа Бендера. Перед возвращением из эмиграции в Россию Толстой продал писательнице Тэффи красивый фарфоровый чайник. «Пользуйся случаем, — сказал он, — продаю всего за десять франков, хотя купил его за двадцать. Но с условием: деньги плати сейчас, а забирай потом, в последний день. А то он нам самим пока нужен». Вскоре выяснилось, что за чайник заплатили вперед еще человек двадцать. А злополучный этот чайник преспокойно уехал вместе с Толстыми в Москву.
Кутил Толстой с рогожинским размахом. Московская литературная и партийная элита долго помнила лукулловы пиршества, которые он закатывал.
Метаморфозы сознания давались Алексею Толстому легко, поскольку он обладал способностью одновременно воспринимать несколько прямо противоположных идей, не теряя своей самобытности. Это позволяло ему спокойно наблюдать, как реальностью становятся вещи неимоверные и даже немыслимые.
Летом 1942 года в Ташкенте Анна Ахматова перевела стихотворение польского поэта Станислава Балинского.
ВАРШАВСКОЕ РОЖДЕСТВО 1939 ГОДА
Не дай нам Матерь, Христа рождения
Праздничный час.
И да не видят глаза Спасителя,
Как мучат нас.
Пусть Бог родится, о, Пресвятая,
Средь звезд иных —
Не здесь, не в самом печальном крае
Из всех земных.
Здесь в нашем граде, что ты любила
От давних дней, —
Растут кресты лишь, растут могилы
В крови своей.
И под шрапнелью все наши дети
С свинцом в груди.
Молись, Мария, за муки эти,
Не приходи.
А если хочешь родить средь теней
Варшавских мест,
То сразу сына после рожденья
Пошли на крест.
Перевод сделан по просьбе Юзефа Чапского. До этого Ахматова никогда ничего не переводила.
В сентябре 1939 года Чапский, ротмистр польской армии, попал в советский плен и оказался в лагере в Старобельске. 5 марта 1940 года Политбюро приняло решение «о рассмотрении дел польских офицеров в особом порядке, с применением к ним высшей меры наказания расстрела». Чапскому сказочно повезло. В последнюю минуту он был включен в группу из семидесяти офицеров, которых почему-то повезли не на расстрел, а в лагерь в районе Вологды. Несколько тысяч офицеров, оставшихся в Старобельском лагере, были расстреляны — все до единого.
Весной 1942 года «красный граф» собрал в своем салоне потенциальных переводчиков будущего польского сборника. За роскошно накрытым столом собрались самые известные из эвакуированных поэтов и переводчиков: Ахматова, Луговской, Кочетков, Пеньковский. Было десять часов вечера. Пили вино, закусывали кишмишем и восточными сладостями. За окном шуршал ветер. Дрожали ветки, прикрывавшие окно тяжелой зеленой гардиной. Чапский, очень высокий, худой, с продолговатым живым лицом, читал по-польски и переводил стихи Словацкого, Норвида, Балийского. Ахматова внимательно слушала.
«Я вижу, как сейчас, слезы в больших глазах молчаливой Ахматовой, когда я неловко переводил последнюю строфу „Варшавского рождества“», — вспоминал Чапский. В своей книге «На бесчеловечной земле» он описал этот вечер.
«Ахматова сидела у лампы одетая в платье из легкой ткани очень простого покроя — среднее между саком и монашеским одеянием, ее седеющие волосы были гладко зачесаны и повязаны цветным шарфом. Вероятно, она была прежде очень красива со своими правильными чертами, классическим овалом лица и большими серыми глазами. Она пила вино и говорила очень мало и в немного странной манере, как будто она наполовину подшучивала даже по поводу самых печальных предметов».
Когда Ахматова прочла фрагмент своей «Поэмы без героя», Чапский церемонно преклонил перед ней колено, с рыцарской непринужденностью поцеловал руку и сказал: «Вы последний поэт Европы».
Поздно ночью Чапский провожал Ахматову домой.
Гирлянды звезд сияли в черном небе. Наивной мелодией журчала вода в родниках. Их окружала душистая тьма, которую не мог одолеть лунный свет. И вдруг громко, как в бубен, ударили сорвавшиеся с горы камни.
Вспоминает Чапский: «Мы с ней совершили длинную прогулку, во время которой она совершенно преобразилась. Ахматова с болью и горечью говорила о том, что она целовала сапоги всех знатных большевиков, чтобы они сказали, жив или умер ее сын, но ничего от них не узнала. Мы были удивлены, что стали вдруг так близки друг другу, а это оказалось возможным из-за того, что я был в польском мундире, и она мне абсолютно поверила, что я не шпион».
Чапскому с его волшебной судьбой суждена была долгая жизнь. Он прожил девяносто шесть лет, написал несколько книг и множество великолепных картин. Ночная ташкентская прогулка с опальной русской поэтессой навсегда запечатлелась в его памяти. Ахматова тоже не забыла своего ночного спутника.
И все-таки не Чапский был главным адресатом этого стихотворения. Уже первая его строка «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума» наводит на размышления. Ясно, что речь идет о любовной страсти, поразившей обоих внезапно и точно, как смерть. Но Ахматова познакомилась с Чапским всего лишь несколько часов назад. Она не Цветаева, которая могла «сойти с ума» даже от взгляда на фотографию. К тому же Ахматова как бы исповедовалась своему спутнику, рассказывала ему о самом трагическом событии своей жизни, об аресте сына, а такая тема не соответствует созданию благоприятной для интимных чувств атмосферы. Но есть еще один, пожалуй, решающий фактор: известно, что Чапский вообще не мог вступать в интимные отношения с женщинами. В последние годы своей жизни он был похож на мумию в Британском музее, но здравый ум и память сохранил до самого конца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: