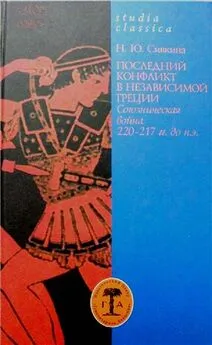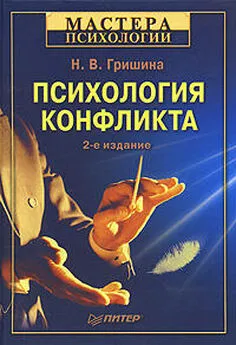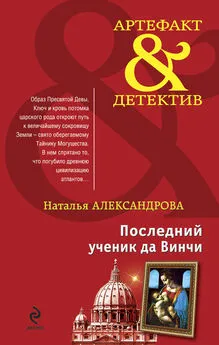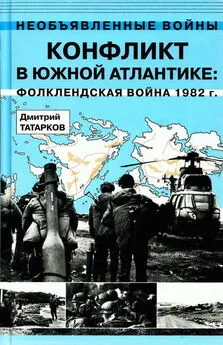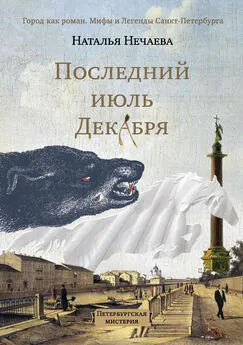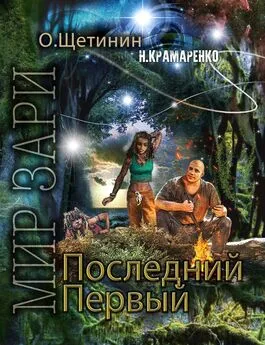Наталья Сивкина - Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э.
- Название:Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «Гуманитарная Академия»
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-93762-067-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Сивкина - Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э. краткое содержание
Издание предназначено как специалистам-антиковедам, так и всем, интересующимся античной историей и военным искусством древности.
Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
К сожалению, любое предположение о данной операции останется гипотетическим. Ф. Уолбэнк, например, говорит о возможных планах создания маршрута через Фокиду, который соединил бы флот, стоящий у Лехея, и силы царя в Коринфе [376]. Однако не слишком невероятным может показаться и версия о том, что целью похода Филиппа должны были стать Дельфы. Такой удар стал бы финальным актом кампании. Но он требовал и соответствующей подготовки. Вероятно, отвлеченный дворцовыми и военными смутами, царь не смог подготовиться должным образом, либо провал кампании был связан с неудачей его фокидских сторонников.
Существует версия, что Филипп, вероятно, в это время получил контроль над восточной Фокидой, куда был назначен стратегом Александр [377], устроивший в следующем году засаду этолийцам в городе фанотеян, о чем будет сказано ниже. Предположение не лишено оснований, поскольку в одной из надписей, относящейся к 222/1 г., ахейцы воздавали почести беотийским и фокидским заложникам, в том числе из Фанотеи (Панопея) и Элатеи (Syll 3, 519). А в 217 г. Фанотея явно выступает на стороне Филиппа. Вполне вероятно, что невозможность по каким-то причинам реализовать основной замысел похода в Фокиду привела, однако, к установлению контроля над некоторыми городами.
Конец военного сезона заняли переговоры. К Филиппу в Коринф прибыли послы Родоса и Хиоса, предложив посредничество в заключении мира (Polyb., V, 24, 11). Царь выразил согласие и отправил их к этолийцам. Посредничество, вероятно, было вызвано приостановкой деловой жизни Греции. Из-за войны никто не был застрахован от нападений и грабежей. В результате посредничества представителей этих островов между этолийцами и Филиппом было заключено перемирие на 30 дней (Polyb., V, 28,1). Македонский царь созвал синедров в Патры (Polyb., V, 28, 3), поскольку заключение мира входило в компетенцию синедриона Эллинской лиги.
Едва ли можно доверять словам Полибия о том, что Филипп на самом деле не намеревался заключать мир (Polyb., V, 29, 4). Это не так. Момент для начала переговоров о мире был выбран весьма удачно. Царь показал себя настоящим полководцем, гораздо более талантливым, чем Арат. Союзники не могли этого не отметить. Фактически это означало, что авторитет македонского лидера стал стремительно расти, создавались прекрасные перспективы для расширения сферы македонского влияния в Греции. После столь успешного сезона войны, когда и Этолия, и Спарта понесли существенные потери, мир был желательным для всех воюющих сторон. Вполне вероятно, что именно так мыслил завершение войны Филипп. Теперь он мог продемонстрировать и друзьям, и противникам, что является истинным гегемоном Эллинской лиги, на деле заботящимся прежде всего об установлении мира.
Однако планам его не суждено было сбыться из-за срыва переговоров. В Этолии прошли выборы стратега, которым стал Агет (Polyb., V, 91, 1). Вполне вероятно, новый глава федерации иначе смотрел на вопрос о немедленном заключении мира. В. Тарн видит причину коварного поведения этолийцев в разорении Ферма, сделавшем примирение сторон невозможным [378]. Полибий говорит (V, 29, 3), что этолийцы затягивали начало переговоров, выжидая исхода смут при македонском дворе, где в придворные интриги были вовлечены даже пельтасты [379]. Волнения были подавлены Филиппом весьма жестко, но время для заключения мира было упущено. Позиции Филиппа в глазах противника были подорваны этим мятежом.
В истории заговора много спорных моментов и, к сожалению, невозможно с уверенностью говорить, кто и с какой целью его инспирировал. Полибий затеняет факты намеками на то, что все выгоды из устранения заговорщиков извлек Деметрий Фарский. Однако, если мы вспомним, кто из заинтересованных лиц был искусным дипломатом и имел причины для устранения постороннего влияния на царя, то вывод напрашивается сам собой — это Арат. Н. Хэммонд полагает, что Полибий пользовался сомнительными источниками и, дав им свою интерпретацию, представил читателю заговор, соединив воедино несвязанные друг с другом события [380]. Поскольку изучение всех подробностей этого инцидента может составить отдельное исследование, в настоящей работе мы ограничимся рассмотрением лишь двух пассажей Полибия.
Первый касается пьяных выходок Мегалея, Леонтия и Кринона после царского пира (Polyb., V, 15). Их речи были так же неприятны Филиппу, как когда-то высказывания Клита Черного Александру Македонскому [381]. В другом месте (V, 16, 5) историк говорит, что Арат обвинял Леонтия и его друзей «с давнишнего времени» — это подразумевает существование между ними серьезных разногласий.
Таким образом, явная параллель между заговором Апеллеса и оппозицией в армии Александра Великого свидетельствует, что в упомянутых событиях при дворе в 218 г. переплелись гораздо более сложные интриги, чем те, которые представил нашему вниманию Полибий. Возможно, аналогия в действиях двух царей говорит о сходности их устремлений. Александр круто расправился с оппозиционерами, первым претворив в жизнь закон, провозглашенный позднее Селевком Никатором: «Всегда справедливо то, что постановлено царем» (Арр. Syr., 61). Ни один Антигонид до Филиппа не решился в полной мере следовать этому принципу. Молодой царь, видимо, рано обнаружил несовпадение своих интересов и взглядов аристократии. Взаимное недовольство привело к открытому конфликту, нарушившему царские планы. Раздраженный сопротивлением Филипп, пользуясь своими военными успехами и возросшим авторитетом и имея наглядный пример в лице Александра Великого, представил дело как заговор [382].
Однако, несмотря на спешно принятые меры, последствия конфликта для исхода войны были неутешительными. Этолийцы, имея в своем распоряжении месяц перемирия, пристально наблюдали за возникшими у царя проблемами и собирали силы для новых сражений. Рационально использовав предоставленное им время и восприняв заговор македонской знати как проявление зародившегося раскола в рядах противника, они по истечении данного срока оправились от деморализовавшего их шока после разгрома Ферма [383]. Упустив удобный момент, македонский царь уже не мог сам обратиться к этолийцам с предложением мира. Такой шаг был бы расценен как проявление слабости. Поэтому ему не осталось ничего другого, как вернуться с войском домой на зимние квартиры. Война затягивалась.
Итоги этого военного сезона оценить довольно сложно. С одной стороны, безусловное военное превосходство Эллинской лиги обеспечило громкие победы над Этолией и Спартой. С другой стороны, не было сделано территориальных приобретений, нет сведений об установлении македонского контроля, не состоялось заключение мира на выгодных для лиги условиях. Не было ничего, кроме разорения земель противника, от которого уже на будущий год враг оправился настолько, что был готов к продолжению борьбы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: