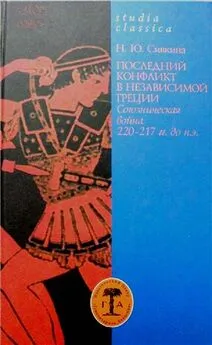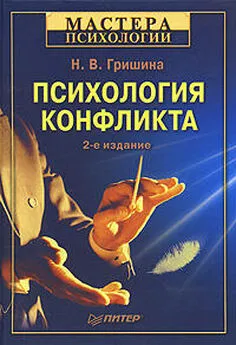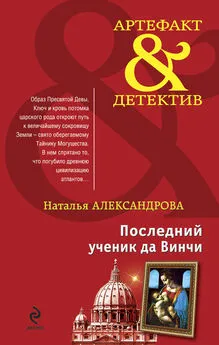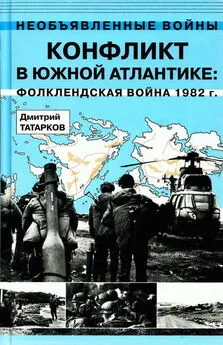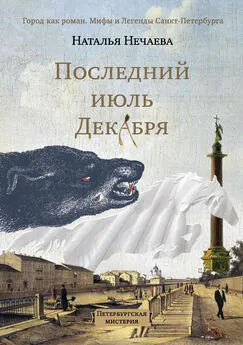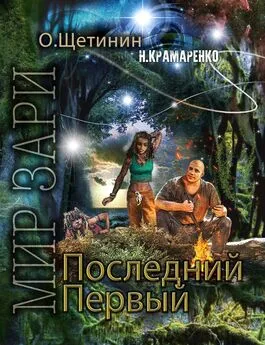Наталья Сивкина - Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э.
- Название:Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский центр «Гуманитарная Академия»
- Год:2007
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-93762-067-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Сивкина - Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э. краткое содержание
Издание предназначено как специалистам-антиковедам, так и всем, интересующимся античной историей и военным искусством древности.
Последний конфликт в независимой Греции: Союзническая война 220–217 гг. до н. э. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Возможно, донос о стремлении Ликурга к перевороту был недалек от истины. Примечательно, что Тит Ливий (34, 26, 14) называет Ликурга, как и Клеомена, тираном. Следует вспомнить о втором царе — Агесиполиде, который был выбран одновременно с Ликургом, но был еще ребенком, так что Ликург с самого начала фактически правил один. Ливий говорит, что Агесиполид был изгнан Ликургом, хотя и не указывает, когда именно это произошло (ibid.). Есть лишь весьма расплывчатое указание на то, что это случилось после смерти Клеомена (Liv., 34, 26, 14). Как известно, спартанский реформатор погиб весной 219 г. А обвинение Ликурга в стремлении к тирании приходится на лето 218 г. Таким образом, хронология событий не нарушена ни в малейшей степени. Сначала потребовалось время, чтобы известие о гибели Клеомена пришло в Грецию, потом шли боевые действия кампании 219 г., затем весной 218 г. Ликург вторгся в Мессению. Изгнание Агесиполида вполне могло иметь место по окончании первых операций войны, но до начала кампании второго года, т. е. в начале 218 г. В таком случае, именно изгнание второго царя в начале 218 г. могло вызвать негативную реакцию спартанцев. Даже сторонники Ликурга решились лишь предупредить его о грозящей опасности (Polyb., V, 29, 9), но не оказали помощи в противостоянии с эфорами.
Примечателен и тот факт, что за последние несколько десятилетий в Спарте по сравнению с прежними временами усилились монархические настроения. Прерогативы царской власти еще в правление Агиса IV были расширены; причем этот процесс сопровождался прямым нарушением полисной конституции. В борьбе с политическими противниками часто использовались тиранические приемы: изгнание царей, физическая расправа с ними, опора правителя на наемников [446]. Вероятно, ликвидация института царской власти после разгрома при Селассии преследовала вполне определенную цель: управление переходило вновь в руки эфората, что порождало элемент нестабильности в государстве. Однако расчет руководителей Эллинской лиги на отстранение таким способом Спарты от активного участия во внешнеполитических делах не оправдался. В обстановке внутренней смуты накануне Союзнической войны эфорат был вынужден назначить нового царя. Опыт недавних лет и опора Ликурга на наемников (Polyb., IV, 36) таили в себе угрозу узурпации власти. Поэтому изгнание второго царя не могло быть оценено иначе, как дальнейший шаг в этом направлении.
Довольно странно в изложении Полибия выглядит и оправдание Ликурга. Потребовалось около года, чтобы установить лживость доноса. Закономерен вопрос, а проводилось ли по делу какое-либо следствие? Скорее всего, нет. Ввиду отсутствия подозреваемого разбор дела должен был быть приостановлен либо ему могли заочно вынести приговор. Тем не менее через год Ликург был оправдан. Но Полибий не приводит никаких подробностей о том, как это произошло. Как была установлена истина? Путем признания доносчика? Весьма сомнительно, если его словам верили так долго. Возможно ответ кроется в смене эфоров. На следующий год должны были быть выбраны другие люди, среди которых могли быть сторонники Ликурга.
Кроме того, изгнание Агесиполида, видимо, было не главным источником недовольства. Основную причину народного гнева следует искать в неудачах на поле битвы. Действительно, все первые успехи начала войны были перечеркнуты безрезультатными походами 218 г. В начале лета Ликург вторгся в Мессению, но его операция оказалась неудачной — никаких приобретений сделано не было. Затем он захватил Тегею, однако акрополь взять не смог и вернулся в Спарту фактически ни с чем (Polyb., V, 17, 1). Едва его войска оставили Тегею, как туда прибыл Филипп (Polyb., V, 18). Как только к македонскому правителю подоспело ахейское ополчение, Филипп незамедлительно вторгся в Лаконику. По свидетельству Полибия, спартанские земли были опустошены (V, 19). На помощь Филиппу шли мессенские воины, однако они были разбиты Ликургом (Polyb., V, 20). Тем не менее эта маленькая победа не дала Ликургу никаких преимуществ. На поле битвы под стенами Спарты сражение между македонским и спартанским войском закончилось победой Филиппа (Polyb., V, 23). Путь на Спарту был открыт, однако царь предпочел вернуться в Коринф, поскольку перед ним стояли иные цели. Столь быстрая и полная победа македонян унизила возродившееся было чувство национальной гордости спартанцев. Естественно, что во всех неудачах они винили прежде всего Ликурга. На фоне столь явных провалов изгнание царем соправителя позволяло обвинить Ликурга в желании изменить государственный строй.
Примечательно, что за следующий год — год без Ликурга — Спарта не вела активных боевых действий. Полибий не приводит никаких данных на этот счет. Складывается впечатление, будто спартанцы понесли столь ощутимый урон, что долго не могли придти в себя после поражения. Но, вероятно, не меньшую роль сыграло и то, что Ликургу просто не нашлось достойной замены. Конечно, во внутренних делах эфоры были вполне компетентны и управляли сами, но другого командующего в их распоряжении не было. Возобновление походов началось после возвращения в страну царя. К сожалению, действия его вновь были неудачными. Совместный план нападения на Мессению в 217 г. был выработан со стратегом этолийцев в Элиде Пиррием. Однако войска союзников не смогли соединиться друг с другом, были отбиты и вернулись ни с чем (Polyb., V, 91, 3; 92, 2–6).
Этолийцы в отношении Спарты все годы войны вели себя пассивно. Нет ни одного свидетельства этолийской помощи Ликургу, за исключением предоставления ему убежища. В боевых операциях спартанцы полагались лишь на собственные силы. Планы совместных действий, видимо, вырабатывались этолийскими стратегами без учета конкретной обстановки и различий в тактике ведения военных действий, как это было в последней операции. Позиция этолийцев показывает, что даже союзники не воспринимали Спарту в качестве реальной силы. Возможно, этолийским стратегам было вполне достаточно тех трудностей, которые спартанцы создавали врагу в Пелопоннесе. Действительно, Ликург, хоть и не нанес существенного урона противнику, постоянно отвлекал ахейцев и македонян от основного театра боевых действий.
Таким образом, возвращение Ликурга в Спарту можно рассматривать с двух позиций. Во-первых, в Спарте за прошедший без царя год изменилось настроение граждан, прошли выборы новых должностных лиц. Во-вторых, возвращение Ликурга было во многом обусловлено военной необходимостью. Этолия в 218 г. тоже подверглась вторжению македонской армии (Polyb., V, 5–14). Вступая в новую кампанию, призванную стать реваншем за разорение их земель, этолийцы должны были спланировать участие в ней спартанцев. Поэтому оправдание царя могло быть организовано и под давлением союзника.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: