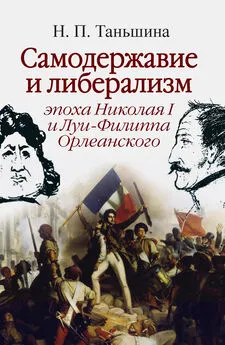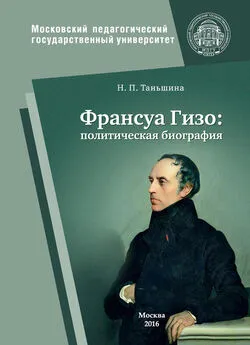Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]
- Название:Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент Политическая энциклопедия
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-8243-2243-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres] краткое содержание
Отношения между странами – это отношения между народами. С одной стороны, неприятие российским императором Июльской монархии, а также линия на свертывание двусторонних контактов только подогревали интерес русского человека к Франции. С другой стороны, к России и русским французы, особенно после Июльской революции и подавления Николаем I Польского восстания, испытывали, как правило, крайнюю настороженность, временами переходившую в откровенную русофобию. Почему нас не любили? Связано ли это было с глубинными цивилизационными отличиями или же антирусские настроения подогревались активной внешней политикой Российской империи? Любовь же русского человека к Франции была неизбывной. Даже несмотря на то, что порой она была безответной…
Книга предназначена для историков и всех, кто интересуется историей Франции и России.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Может быть, еще более известным русским парижанином был уже знакомый нам Анатоль Демидов. В 1837 г. он организовал научную экспедицию на Украину и в Крым. Геолог Ла Плай проводил изучение угольных залежей Донецка; Раффе составил замечательный альбом литографий, и целый штат редакторов, среди которых известный журналист Жюль Жанен, помогал Демидову составлять отчет о путешествии, появившийся сначала в 1838 г. в виде эссе, а в 1841–1842 гг. в виде отдельной книги.
Демидов пытался сделать литературную и политическую карьеру, опубликовав под псевдонимом Ни-Таг (от Нижний Тагил) серию статей, посвященных внутреннему положению России, обрисовав его в самых смешных тонах. Серия выходила в «Le Journal des Débats» в 1838–1839 гг., но была прекращена по распоряжению русского правительства.
Продолжая традиции своего отца, Анатоль попытался стать меценатом. Он спонсировал художника Андре Дюранда, в 1839 г. совершившего путешествие по России, добравшегося до Казани и привезшего интересные гравюры. Он помогал Эжену Делакруа, написавшему в 1837 г. его портрет [740].
Однако французы, по словам М. Кадо, лишь глумились над литературными претензиями Демидова и его шиком, воспринимая его как парвеню. Однако тот весьма ловко смог привлечь на свою сторону влиятельных журналистов, в том числе упоминавшегося Ж. Жанена, которого он в 1837 г. направил в Россию, а в следующем – в Италию. Именно Жанену пришла в голову идея брака Демидова с принцессой Матильдой.
После возвращения в августе 1841 г. из России супруги Демидовы расположились в своем отеле на улице Сен-Доминик, где Анатоль начал устраивать пятничные приемы. Завсегдатаем салона Матильды был Адольф Тьер, с которым она познакомилась еще в 1837 г. в Италии, журналисты Ж. Жанен и Эжен Лами; Матильду принимали в Тюильри. У своего дяди принца Павла Вюртембергского, отца великой княгини Елены, она сблизилась с Н.Д. Киселевым, поверенным в делах России во Франции.
Между тем семейная жизнь постепенно разладилась. Императору Николаю во время путешествий по Италии в 1844 и в 1845 г. приходилось выслушивать жалобы Матильды. В конце 1846 г. после полугода ожидания она узнала, что ее супруг заявил о разрыве; у нее остаются драгоценности и пансион в 200 тыс. франков. В июле 1846 г. Демидов был отозван в Россию; возвращаться в Париж ему было запрещено. Во Франции он оказался только после смерти Николая I.
Составить полное впечатление о русской колонии в Париже весьма сложно, поскольку большинство ее представителей оставило мало информации о своем пребывании в столице Франции, не считая упоминаний в прессе или в воспоминаниях современников. Поскольку жизнь в Париже была слишком дорогой, русские аристократы были вынуждены периодически возвращаться на родину, дабы решать хозяйственные вопросы и компенсировать потери, порой огромные, от игры в курортных городах.
Уже знакомый нам граф Поль де Жюльвекур не понаслышке знал об этом нестабильном характере русской колонии в Париже: «Каждый год они [русские] появлялись как сверкающие метеоры и так же быстро исчезали…» [741]Настоящее движение происходило именно среди этих «перелетных птиц», а не постоянных членов колонии. Русские приезжали в Париж, как правило, в конце сентября, предпочитали селиться на улице Риволи, Итальянском бульваре и улице Мира и выбирали отели «Ваграм», «Виндзор», «Монморанси» и «Терраса» [742].
В первой части своего романа «Московское Предместье Сен-Жермен» Жюльвекур описал распорядок дня некоего графа Аксанина (фамилии героев весьма характерны, причем автор подчеркивает, что все имена вымышленные: генерал Снегов, мадемуазель Людмилофф, (графиня Аксанина), князь Рубецкой, Барышкин, Болтунофф [743]. Утром он посещал Сорбонну, после обеда слушал знаменитых проповедников, в шесть часов обедал в модных ресторанах, потом шел на спектакль «и не возвращался домой, не посетив несколько злачных мест». По словам Жюльвекура, русские 1840-го года были англичанами образца 1820-го [744].
Несмотря на то что англичане оставались самыми многочисленными иностранцами в Париже, русские пытались затмить их своим богатством, они вызывали особое любопытство, а иногда и усмешки. Например, Жильвекур говорит, что в России благородный человек имеет привычку путешествовать со всем своим скарбом: кроватью, кухней, слугами, поскольку без всего этого он рискует спать на земле и есть квас и щи. Оказавшись за границей, этот благородный человек не может понять, что во всем этом он не нуждается, и поэтому окружает себя этой смешной роскошью [745].
Для наших соотечественников, оказавшихся в Париже, дни пролетали незаметно. Жюльвекур верно подметил эту деталь. Он писал, что если парижанам не хватало времени для дел, то иностранцам – для удовольствий. Князь Борис из его романа за два месяца пребывания в Париже не мог привыкнуть к быстрому течению дней и часов. Если в России он пытался тысячами способов убить скуку, то в Париже, наоборот, жизнь была наполнена развлечениями и праздниками [746].
Русские аристократы, по словам Жюльвекура, были в Париже в моде: «Нынче нельзя отмахнуться от русских князей и княгинь. Предместье Сен-Жермен их приглашает, литературный мир их ищет, Шоссе-д’Антен на них надеется, торговля о них мечтает, а филипповское окружение (имеет в виду короля Луи-Филиппа. – Н. Т .) их умоляет!» [747]
В сборнике «Иностранцы в Париже», отмечалось: «Три лорда, пять русских князей, шесть величеств и Бог знает сколько маркграфов… Ступайте на Елисейские поля: самые дорогие экипажи принадлежат русским и англичанам» [748]. А.И. Тургенев писал из Парижа 9 апреля 1838 г., что самые красивые экипажи на Елисейских полях – экипажи княгини Багратион и Тюфякина. В «Le Corsaire» от 25 октября 1843 г. читаем: «Никто больше не верит в милордов. Наденьте очки и вы увидите только русского князя…» Дельфина де Жирарден в 1844 г. писала, что французские кутюрье, портные и модистки зависели от своих итальянских, немецких и русских клиентов.
По словам М. Кадо, начиная с 1840 г., «русский князь» был в моде в Париже, причем независимо от политической ситуации, а иногда и благодаря ей. По мнению историка, вероятно, Оноре Бальзак сам редактировал в своем «La Revue Parisienne» внутреннюю политическую хронику под названием «Русские письма», которые якобы один русский князь писал другому русскому князю. Как полагал Кадо, под этой удобной маской Бальзак мог стрелять раскаленными ядрами в «незаконнорожденный режим» Июльской монархии и выступать за союз с Россией. Хотя на самом деле, по мнению Кадо, Бальзак вовсе не любил русскую аристократию [749].
В Париже был и другой слой русских – люди, оказавшиеся там по политическим соображениям, в том числе и политические эмигранты: М. Бакунин, А.И. Герцев, Н.И. Сазонов, Н.И. Тургенев, И.Г. Головин. Какую жизнь эти русские вели в Париже? Предоставим слово немецкому демократу, записавшему позднее: «Бакунин и другие русские, среди которых я вспоминаю графа Толстого, только и делали, что читали газеты. Для них день смешался с ночью. Они вставали не раньше полудня, завтракали, потом обедали в шесть вечера и оставались в кафе до трех, четырех или пяти часов утра. Потом шли спать, и назавтра эта инфернальная сарабанда повторялась» [750].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Наталия Таньшина - Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского [litres]](/books/1150356/nataliya-tanshina-samoderzhavie-i-liberalizm-epoha-nikolaya-i-i-lui-filippa-orleanskogo-litres.webp)

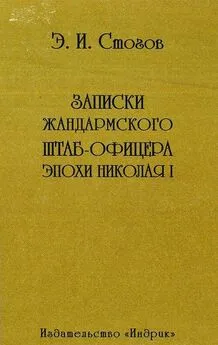
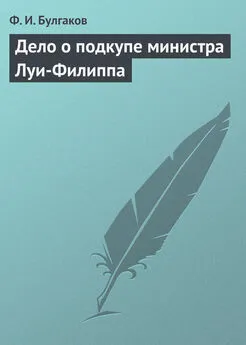

![Луиза Кэндлиш - Наш дом [litres]](/books/1066307/luiza-kendlish-nash-dom-litres.webp)
![Наталия Таньшина - Франсуа Гизо: политическая биография [litres]](/books/1066752/nataliya-tanshina-fransua-gizo-politicheskaya-biogra.webp)
![Луиза Дженсен - Свидание [litres]](/books/1071030/luiza-dzhensen-svidanie-litres.webp)
![Луиза Дженсен - Подарок [litres]](/books/1085600/luiza-dzhensen-podarok-litres.webp)