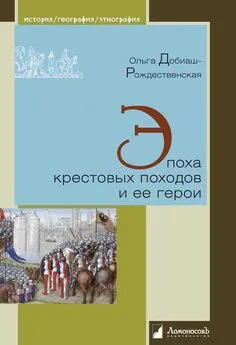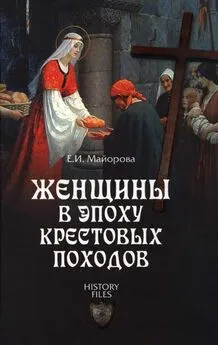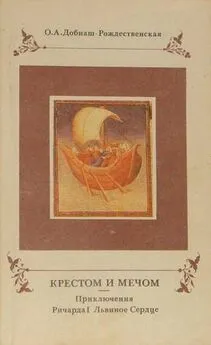Ольга Добиаш-Рождественская - Эпоха крестовых походов и ее герои
- Название:Эпоха крестовых походов и ее герои
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ломоносовъ
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91678-405-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ольга Добиаш-Рождественская - Эпоха крестовых походов и ее герои краткое содержание
Эпоха крестовых походов и ее герои / Ольга Добиаш-Рождественская. — М.: Ломоносовъ. — 2017. — 208 с. — (История. География. Этнография).
«Как случилось, что такие массы вняли голосу Божию, покинули жен, родных, имения?» — задавался вопросом Фульхерий Шартрский, участник и хроникер Первого крестового похода. И в самом деле, что заставляло тысячи и тысячи людей покидать родные места и с оружием в руках идти в невероятные заморские паломничества, из которых многим вернуться было не суждено? Кто они были, вожди и рядовые участники крестовых походов, несшие с собой не только любовь к Богу, но также смерть и разрушение, — безумные фанатики, алчущие обогащения авантюристы, воины, с чистыми помыслами исполняющие свой долг, или обычные люди, попавшие в круговорот религиозного воодушевления? И как возникла впервые и почему повторилась не раз волна крестоносного энтузиазма, поднимавшая в дорогу целые народы, — и вообще, что это было? На эти вопросы дает ответ книга Ольги Добиаш-Рождественской.
Ольга Добиаш-Рождественская (1874–1939) — выдающийся историк-медиевист, первая женщина — член-корреспондент отечественной Академии наук.
Иллюстрации Ирины Тибиловой
Книга изготовлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-?3, ст. 1, п. 2, пп. 3. Возрастных ограничений нет
Эпоха крестовых походов и ее герои - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Армии шли разными путями на Константинополь — условленное место сбора. Северные французы, лотарингцы и отчасти немцы под предводительством герцогов Нижней Лотарингии Годфрида Бульонского и Балдуина шли классической дорогой паломничеств — долиной Дуная. В Константинополь они явились в декабре. Отдельные отряды из Нормандии и Шампани имели во главе Роберта Нормандского и Роберта Фландрского, Этьена Шартрского и Гуго Великого, брата короля Филиппа I. В разное время они достигли портов в Апулии и высадились в Дураццо, чтобы весною 1097 года добраться до Константинополя и нагнать первую армию уже в Малой Азии. С провансальцами, которых вел Раймунд Тулузский, шли многочисленные представители клира; среди них был духовный вождь похода Адемар, епископ Пюи. Они прошли Северной Италией, вступили в Восточные Альпы, прошли зимой через Славонию и, после нескольких стычек с печенегами, в апреле явились в Константинополь.
Каждое из крупных соединений имело своего летописца. Вдумчивый, спокойный Фульхерий, каноник Шартрский, связал свою судьбу с герцогами Лотарингии. С ними он и очутился в Иерусалиме. Раймунд Агильский был хроникером южнофранцузского ополчения, следуя всюду за своим любимцем князем Раймундом. Родину анонимного автора лучших мемуаров Первого крестового похода — «Деяния французов и других борцов за Иерусалим» — искали долго в разных углах крестоносной Европы. В конце концов внимательное чтение его полной жизни хроники привело к заключению, что он был итальянец (притом, единственный из всех хроникеров, светский рыцарь — живое воплощение чувств и дум «среднего» крестоносца). Он вышел с тем четвертым потоком крестоносного войска, который двинулся из Южной Италии за Боэмундом, князем Тарентским, сыгравшим впоследствии важную роль в направлении и лозунгах всего движения.
Замечательная фигура князя Тарентского — предмет непрерывного восхищения наивного хроникера. «Мудрым», «храбрым», «атлетом Христовым», даже «ученейшим» называет он его. «Ты — честь и краса земли, решитель войны и судья битв». Похвалы эти незаказные. Они смолкли после неприглядных впечатлений княжеских раздоров около Антиохии. Несомненно, во всяком случае, что в лице Боэмунда крестоносное войско получило не только первоклассного стратега и дипломата, хорошо знакомого с ухищрениями византийской политики, быстро ставшего если не душой, то головой всего предприятия, но и носителя «итало-норманнской» идеи, которая наложила печать на все движение и со временем привела к плану оккупации Константинополя. В противоположность бескорыстной мечте Урбана, это была идея религиозно-политического подчинения Востока. Иерусалим и интересы восточных церквей играли в ней второстепенную роль. Зато выдвигался план создания сильной восточно-латинской державы, которая организовалась бы под главенством нормандской династии с благословения папского престола и имела отправной точкой Антиохию с ее — так утверждала популярная в ту эпоху легенда — «древнейшей кафедрой св. Петра».
Все эти войска со своими вождями и летописцами прошли весной 1097 года через Константинополь. Перед всеми возникал вопрос, в какое отношение к Византии станут крестоносцы и их будущие завоевания, имеющие совершиться на прежней территории Восточной империи. Многое изменилось с тех пор, как император Алексей Комнин слал Западу просьбы о помощи, — во всяком случае, ему далось укрепить свою власть. В Константинополе были осведомлены о составе и настроении крестоносного войска. Здесь знали о воинственности западных рыцарей и повторяли с ужасом, что даже священники и церковные прелаты ищут кровопролитий и потасовок. Армия Петра Амьенского показала, чего можно ждать от западного сброда, натворившего немало бед в царском городе. Из всего этого вырос план византийского правительства: изолировав отдельные ополчения и завязав с ними возможно дружеские отношения, накинуть узду на их действия и как можно скорее отправить на азиатский берег, связав определенным договором.
Перед лицом войск латинского Запада, вступавших на территории Византии, базилевс мыслил себя так, как мыслили себя его предшественники много веков назад в отношении германских и славянских варваров, которых они звали спасать империю и служить ей. Эту точку зрения отразила в своем повествовании византийская царевна Анна Комнина. Она не чувствует, замечает один из ее биографов, что римский мир рушится. Для нее античная цивилизация, центр которой перенесен в Константинополь, жива, и Восточная империя — единственная законная, организованная сила. Поставленная в центре жизни «второго Рима», вскормленная самыми гордыми традициями его, она верит, что варвары существуют лишь в виде низшей стихии, подлежащей использованию и обузданию.
В итоге длинного ряда переговоров, интриг и проволочек, во время которых Гуго даже побывал у византийцев в плену, а Годфрид оказался как бы в осажденном лагере за стенами Константинополя, — все бароны принесли императору вассальную присягу, в силу которой обязывались, по словам Анны, «все замки и города, которые они завоюют на пути, подчинить власти императора», а по выражению (значительно более благоприятному для крестоносцев) Раймунда Агильского, «без воли императора не удерживать ни города, ни замка, составляющих достояние империи». Так вольно или невольно заключен был греко-латинский союз, и, сопровождаемые греческими проводниками и небольшими отрядами греческого ополчения, крестоносцы двинулись на малоазийский берег. Первая победа была одержана ими (в начале июня) под Никеей. Еще до вступления их в город над ним взвилось знамя императора.
Эта победа так же, как и следующий успех под Дорилеей, были важными моментами, после которых движение крестоносцев по Малой Азии совершалось относительно свободно. Они страдали не столько от военного противодействия, сколько от трудных условий перехода по выжженной степи, недостатка воды и провианта. С печальным юмором описывает Фульхерий, как, потеряв множество людей и лошадей, крестоносцы вынуждены были седлать быков и переложить обоз на свиней и баранов. У Гераклеи разбилось единство крестоносного войска. Балдуин с Танкредом, отделившись от него, углубились в Киликию и овладели ее укреплениями. Затем, после споров с Танкредом, Балдуин проник в Великую Армению, занял ее, получив поддержку армянского населения, вплоть до Эдессы, где стал соправителем местного князя Тороса, а после его предательского убийства единственным государем — «графом».
Трудно сказать, сознавали ли крестоносцы все значение, какое получило в общем ходе завоеваний это предприятие. Путь по долине Евфрата был, пожалуй, единственной дорогой, по которой турки могли поддерживать свою военную силу в Сирии. Поставив здесь, на самых истоках Евфрата, прочный бастион, эдесские графы изолировали Сирию от багдадской ее базы. Во всяком случае, те полвека, которые продержалось Эдесское графство, были периодом поступательного движения латинской стихии на Востоке. Оно замедлилось и остановилось, даже пошло назад с падением Эдессы в 1147 году. Нужно заметить, что устойчивость латинского владычества обусловливалась дружелюбием армянского населения. Вообще же надо заметить, что поддерживать добрые отношения с местным населением крестоносцам удавалось не всегда, что и стало одной из причин непрочности их положения в завоеванных областях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: