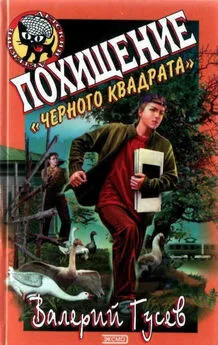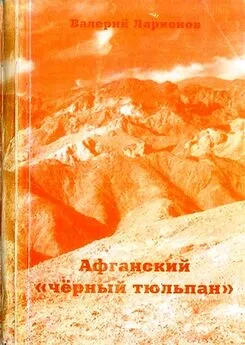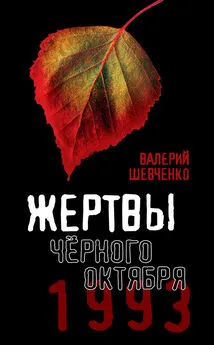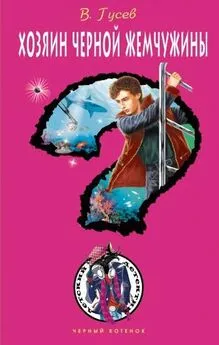Валерий Злыгостев - И нагрянула черная рать... Монгольское завоевание Южного Урала. 1205–1245
- Название:И нагрянула черная рать... Монгольское завоевание Южного Урала. 1205–1245
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Китап
- Год:2015
- Город:Уфа
- ISBN:978-5-295-06164-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Злыгостев - И нагрянула черная рать... Монгольское завоевание Южного Урала. 1205–1245 краткое содержание
Книга предназначена для тех, кто интересуется историей родного края.
И нагрянула черная рать... Монгольское завоевание Южного Урала. 1205–1245 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Что касается 1236 года и участия башкир в Великом западном походе, высвечиваются как минимум два фактора, упомянуть о которых необходимо.
Во-первых, военно-административная система Монгольской империи предусматривала использование института заложничества в качестве гаранта стабильных отношений между сюзереном и вассалом. Подобные отношения, безусловно, приносили свои плоды, и порою находившиеся в ставке каана «заложники», чей социальный статус в корне отличался от того, что мы наблюдаем сейчас, и предусматривал в том числе службу государю с оружием в руках, достигали на иерархической лестнице Чингисовой державы высочайших ступеней. Тот же Субэдэй хотя и начинал свою службу в составе гвардии Чингис-хана — кэшиге, тем не менее составителями «Юань ши» отмечен в качестве «сына-заложника» [18, с. 226, 288]. О Муйтэн-бие подобных сведений не сохранилось, но, учитывая специфику политики, исповедуемой монгольскими правителями, можно однозначно утверждать, что само его участие в походе на Запад являлосьдля завоевателей не только способом привлечения на свою сторону дополнительных войск, но и актом заложничества— условием, обеспечивающим абсолютную лояльность в отношении нового режима его соплеменников, оставшихся в тылу.
Во-вторых, несомненно и то, что привлечение завоевателями башкирской знати для решения общеимперских задач — неважно, разгрома кипчаков, нашествия на Русь или разорения Центральной Европы — повлияло на ее мировоззрение. Находясь в рядах одного войска, да что греха таить, прикрывая порой в бою щитом спину «коренного» монгола — недавнего врага, оглядев ситуацию изнутри, башкирские вожди, да и простые воины начинали по-иному воспринимать фактор монгольского присутствия не только на границах Южного Урала, но и в масштабах всего евразийского пространства. Не мудрено, что в условиях похода, когда на общеармейских сборах во всей своей пугающей мощи перед изумленными, не избалованными подобными зрелищами башкирами, да и представителями других народов, выходцами из периферийных областей, представали огромные массы степной конницы, можно было уже задуматься и о величии монгольского государства, и о сакральной, священной еще при жизни личности его создателя — Чингис-хана. Башкирские воины, участвовавшие в походе на запад, оказались в эпицентре идеологического пресса, который посредством чрезвычайно жестких форм дисциплинарного воздействия буквально «вколачивал» в их сознание неизбежность того, что и далее, в «гражданской» жизни, им придется следовать священным законам Чингисовой Ясы, предусматривавшей абсолютную покорность вассала сюзерену. Именно тогда башкирские вожди, удостоенные чести присутствовать в ставках царевичей-огланов и наблюдая там за церемониалами, богатством и роскошью (с их точки зрения) походной жизни Чингисидов, не могли не задуматься о самом Основателе как об объекте поклонения. Так или иначе, но внутри уже башкирской элиты в определенный момент зародился культ почитания Чингис-хана.
В свое время Р. Г. Кузеев (а актуальность его утверждения — смелого для своего времени [93] Это высказывание Р. Г. Кузеева относится к 1960 году.
— не утрачена и в наши дни) заметил, что « в представлении башкирской родоплеменной аристократии… и рядовых башкир, все великое, могущественное связывалось с Чингис-ханом» [5, с. 201]. Нет ничего удивительного в том, что в шежере племен юрматы, мин, усерген, табын, кара-табын, бурзян, кыпчак, айли, иряктэ Чингис-хан фигурирует в качестве источника и символа власти[4, с. ПО, 138, 180; 5, с. 31, 84, 523, 165].
Появление создателя Монгольской империи на страницах такого достаточно социально направленного источника, каковым, в отличие от исторических преданий, является шежере, отражает начало нового этапа в развитии башкирского общества. Этапа, когда родовая верхушка башкир, приняв культ Чингис-хана и официально признав его «небесное» покровительство (ни разу с ним не встретившись!), попыталась (и успешно!) юридически оформить легитимность своей власти, дарованной ей не от иных представителей «золотого рода» — Угэдэя, Чагатая, Толу я, Гуюка, Мункэ или Бату, о которых также имеются упоминания в родословиях [4, с. 300–301; 5, с. 31], но непосредственно из рук Основателя. Красноречивым свидетельством на этот счет является отрывок из шежере племени юрматы, в котором родовые бии, конечно же, в более поздней трактовке именуются ни много ни мало как ханами, тем самым подчеркивая свой социальный статус: «63-й предок, Салим- хан, пребывал ханомсорок лет. От него Ильгам- хан. На его веку появился Чингиз-хан. Направились к нему, и Ильгам-хан присягнул [ему] на верноподданство. Говорят, что от Чингиз- ханаповелось у всех народов прикладывать тамгу. В то время наш предок Юрматы и другие роды направились к Чингиз- хануи присягнули, говорят, ему на верноподданство. Наш предок Юрматы в [знак] верноподданства стал ловить диких зверей за голень. В ту пору не было таких, кто бы ловил зверей руками, [поэтому] Чингиз- хану[это] очень понравилось, и нашему предку Юрматы он сказал: «Деревом твоим пусть будет ива, птицей твоей — балабан, тамгою твоей — вилы, боевым кличем твоим — "Ак тюбя!"», — сказал и так установил» [4 с. 67] [94] Примечательно, что поздний составитель родословия юрматы оставил ремарку достойную человека, попытавшегося заглянуть в прошлое и найти случившемуся объяснение: «Описываемое здесь время Юрматы было давно, много времени прошло, и если есть [здесь] ошибки, то не читайте их как ошибки. Многого знать [людям] не дано, [ведь правду] лучше всех знает [только] Аллах , и [это] справедливо» [4 с 67].
.
Впрочем, наделение завоевателями отдельных башкирских племен тотемическими символами не означало окончательного признания последними их гегемонии над собой (подобные ситуации мы рассмотрим ниже) Необходимо помнить, что усергены, бурзяне и иже с ними в лице Муйтэн-бия, приняв в 1236 году решение о подчинении монголам, представляли только часть башкирского сообщества. Если южные их племена признали свою зависимость от завоевателей в середине 1230-х годов, то есть в момент начала концентрации монгольских войск на Итиле и Яике а племена, населявшие центральную часть Башкортостана, были к этому шагу готовы, то вот население северо-запада Башкирии, примыкавшего к Волго-Камью и находившегося в тесных, в том числе и экономических, отношениях с Волжской Булгарией, по-видимому, было преисполнено решимости встретить врага с оружием в руках.
3.6. Завоевание. Между реальностью и мифами
Интервал:
Закладка: