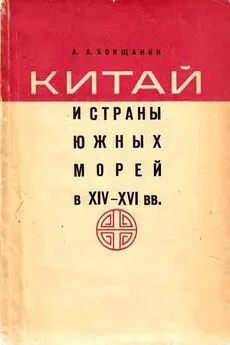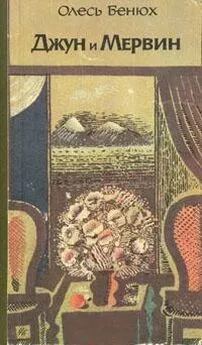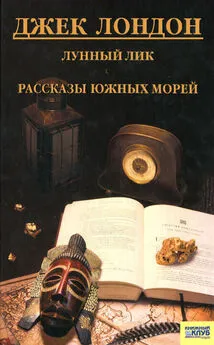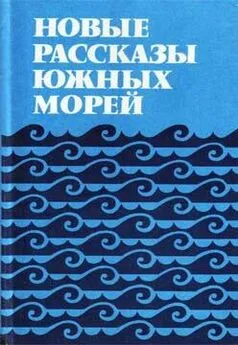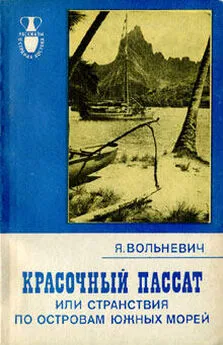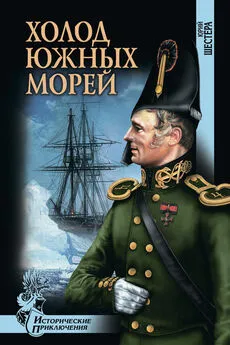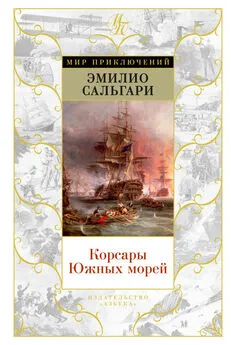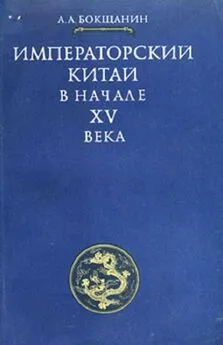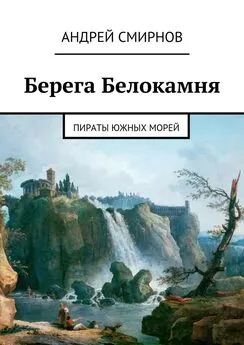Алексей Бокщанин - Китай и страны Южных морей в XIV–XVI вв.
- Название:Китай и страны Южных морей в XIV–XVI вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1968
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Бокщанин - Китай и страны Южных морей в XIV–XVI вв. краткое содержание
Специальный раздел книги посвящен внешнеторговой политике Китая этого времени.
Китай и страны Южных морей в XIV–XVI вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В 1407 г. при столичных гостиницах для приема иноземцев, учрежденных в том же году, была открыта школа переводчиков с иностранных языков [323]. Ведомство обрядов отобрало 38 учащихся Государственной школы (Го цзы цзянь) для обучения их устному и письменному переводу. Держа столичные экзамены наряду с прочими чиновниками, экзаменационное сочинение они должны были давать также и в переводе на изучаемый ими язык. После сдачи экзаменов они направлялись на работу в гостиницы, принимавшие иноземных послов, где не прекращали совершенствоваться в письменном переводе [324]. В дальнейшем штат переводчиков был еще более расширен, в результате чего, как отмечено в «Шу юй чжоу цзы лу», все послания, доставляемые различными иноземными послами, переводились на китайский язык [325].
В начале XV в. контроль над внешними связями Китая постепенно переходит и дворцовым евнухам. Большинство начальников экспедиций китайского флота в страны Южных и Западных морей, а также многие китайские послы, направлявшиеся с ответными миссиями в эти страны, принадлежали к этой категории лиц. Дворцовые евнухи захватили контроль над управлениями торговых кораблей. В «Гуандун тун чжи» записано: «Распоряжались доставленными в дань товарами дворцовые евнухи, а чиновники тицзюя [из управлений торговых кораблей] ведали лишь регистрацией и только» [326]. Со временем в их руках оказались и посты начальников управлений торговых кораблей.
Роль евнухов в управлении государственными делами в Китае в период Мин была очень значительна. Сделавшись самой приближенной к трону кастой, они пытались закрепить свое положение, открыв при дворе школу для малолетних евнухов. Распространение их контроля на внешние посольские связи Китая, начавшееся с первых лет XV в., послужило впоследствии причиной борьбы придворных группировок, что отразилось на состоянии этих связей. Однако в рассматриваемый нами период — с начала до середины 30-х годов XV в. — поручение внешних связей кругу наиболее приближенных к императорскому трону лиц еще раз свидетельствует о большом значении, которое придавали правящие круги Китая внешним сношениям. Сосредоточение руководства этими сношениями в самых высших сферах служило на том этапе известным стимулом в их развитии.
В результате активизации внешней политики китайского правительства в начале XV в. параллельно с расширением посольских связей была значительно упрочена своеобразная система номинальных «вассальных отношений» стран Южных морей с Китаем во всех ее формальных проявлениях. Современники и участники заморских походов восторженно писали: «Среди множества стран нет таких, которые бы не сдались нам… Повсюду, куда приходили наши корабли и повозки и куда могли пройти люди, не было никого, кто бы не питал [к императору] чувства уважения и преданности… Все страны признали себя подданными. Процветает присылка дани и подношений» [327]. Естественно, это красочная гипербола, типичная для официального стиля того времени в Китае. Однако здесь, несомненно, нашли отражение успехи, достигнутые Китаем в странах Южных морей в начале XV в. Периодическое появление в водах Южных морей китайского флота с армией на борту и прецеденты непосредственного военного вмешательства превратили Минскую империю во вполне реальную силу в глазах многочисленных мелких государственных образований этого района. Местные властители не могли не считаться с этим.
Этот успех сознавали китайские средневековые политики. В этом плане характерно высказывание Хуан Син-цзэна, автора книги о заморских странах, жившего полтора столетия спустя после экспедиций флота. Он писал, что хотя походы в заморские страны предпринимались Китаем и раньше, как в древние времена, так и в конце XIII в., но до начала периода Мин «не все эти страны были склонены к покорности… тогда как наша священная Династия достигла того, что многие десятки стран были соединены воедино и радостно оказывали почтение [Китаю]». Эта тирада заканчивается словами: «Можно с уверенностью сказать, что это слава!» [328]. Если отбросить характерную гиперболичность стиля и оставить на совести автора разговор о «радостях» иноземцев по поводу сложившегося положения, можно сказать, что здесь отразился определенный сдвиг в отношениях Минской империи с заморскими странами по сравнению с предшествующими временами. Иными словами, здесь в напыщенной форме передана мысль о превращении номинального вассалитета иноземных стран в стройную систему государственной политики. Начало этому было положено в конце XIV в., но осуществлено с наибольшим успехом в начале XV в.
Усиление политического влияния Китая в странах Южных морей в начале XV в. проявилось в целом ряде новых явлений, наблюдавшихся в их взаимоотношениях. Одним из них можно считать визиты некоторых правителей стран Южных морей ко двору императора.
В 1405 и 1408 гг. Китай посетил властитель Фэнцзяшиланя (в китайской транскрипции) [329], в 1408 и 1412 гг. ко двору прибыли властители страны Бони [330], в 1411, 1419, 1424 и 1433 гг. — правители Малакки [331], в 1417 г. — вожди различных племен с о-вов Сулу [332], в 1420 г. — властитель Гумалалана (в китайской транскрипции) [333], в 1434 г. — правитель Самудры [334]. Некоторые из иноземных властителей прибывали со своими семьями, подчиненными и в сопровождении значительной свиты. Правителей о-вов Сулу, например, сопровождало 340 человек, а правителя Малакки — 540 человек.
Разумеется, иноземные властители преследовали свои цели, пытаясь использовать сближение с Китаем в собственных интересах. Однако, прибывая к императорскому двору, они должны были давать заверения в своей «преданности и почтительности», т. е. в подчинении верховной власти императора. Это несомненно было определенным шагом вперед в поддержании системы номинального вассалитета иноземных стран, и визиты правителей стран Южных морей в Китай в начале XV в. можно считать большим достижением китайской политики в этом районе.
Посмотрим на конкретных примерах, каковы были цели и значение таких визитов «на высшем уровне». Возьмем прибытие к императорскому двору правителя Бони в 1408 г. Развитие отношений с Бони представляет для нас особый интерес, так как мы можем сравнить, как изменились в начале XV в. методы и цели китайской политики по сравнению с посольством Шэнь Чжи в 1370 г.
Добившись приезда посольства из Бони в 1371 г. и признания им верховного сюзеренитета китайского императора, Китай не предпринимал попыток закрепить посольские связи с этой страной. До 1405 г. в источниках нет упоминаний о посольствах в Бони или из Бони. В 1405 г. местный властитель Манажэцзяна (в китайской транскрипции) прислал посольство с «положенной данью двору». Тогда в Бони был послан китайский чиновник титуловать Манажэцзяну ваном, отвезти ему свидетельство на этот титул, манифест императора, удостоверительную разрезную печать и подарки. В ответ на это Манажэцзяна летом 1408 г. прибыл в Китай.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: