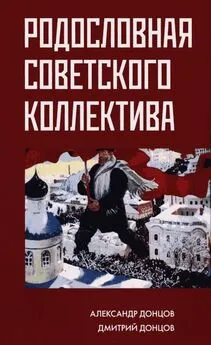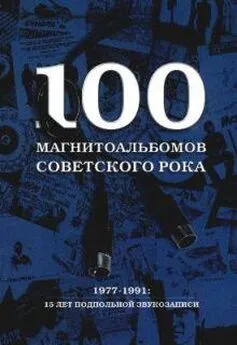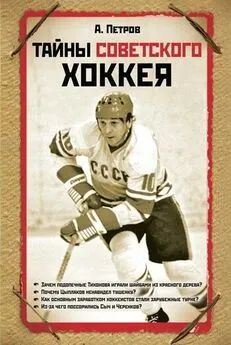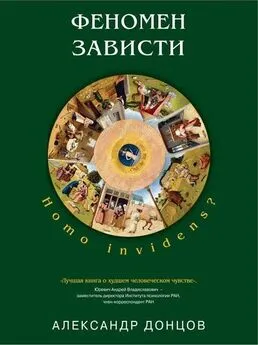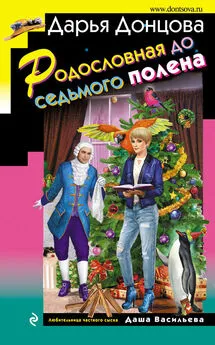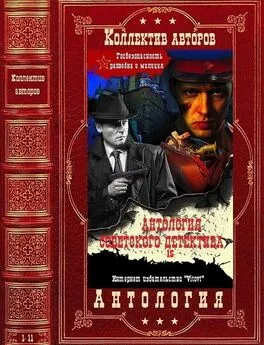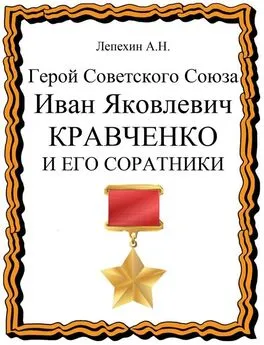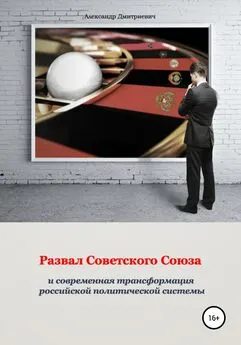Александр Донцов - Родословная советского коллектива
- Название:Родословная советского коллектива
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2019
- Город:М.
- ISBN:978-5-17-119682-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Донцов - Родословная советского коллектива краткое содержание
«История — учительница жизни». Забыли заповедь Геродота? Напомним. Не пожалеете.
Рецензенты:
Зинченко Ю. П. — президент Российской академии образования, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова, президент Российского психологического общества, академик РАО, доктор психологических наук, профессор.
Белоусов Л. С. — декан исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, академик Российской академии образования, доктор исторических наук, профессор.
На обложке использована репродукция картины «Большевик» художника Бориса Кустодиева, предоставленная агентством МИА «Россия сегодня».
Автор фото — Владимир Вдовин Компьютерный дизайн — Виктория Лебедева
Родословная советского коллектива - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теоретическим новшеством эта метафора не была: в отечественной науке идея коллектива как «собирательной личности» еще в начале 20-х гг. прошлого века обоснована выдающимся психиатром и психологом В.М. Бехтеревым (1857—1927) [1-18] [1-18] Бехтерев В. М. Коллективная рефлексология. М. — Пг., 1921.
. Зиновьевская констатация коллективного «Я» важна как свидетельство очевидца, в работах которого, по заслуживающей доверия оценке А. А. Гусейнова, «дан наиболее глубокий анализ коммунистической социальной организации, объективных закономерностей ее развития, причем — реальных, а не вымышленных» [1-19] [1-19] Гусейнов А. А. Зиновьев А. А. // Социологическая энциклопедия. Т. 1. М., 2003. С. 325.
. Согласно Зиновьеву, возникающая в коллективе психологическая общность зиждется на т. н. коммунальных взаимоотношениях, сопутствующих совместной жизни и деятельности. «Коммунальные законы суть определенные правила поведения (действия, поступков) людей по отношению друг к другу. Основу для них составляет исторически сложившееся и постоянно воспроизводящееся стремление людей и групп людей к самосохранению и улучшению условий своего существования в ситуации социального бытия. Примеры таких правил: меньше дать и больше взять; меньше риска и больше выгоды; меньше ответственности и больше почета, меньше зависимости от других; больше зависимости других от тебя» [1-20] [1-20] Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность. С. 72.
. «Не действовать во вред себе, препятствовать другим индивидам действовать во вред себе, избегать ухудшения условий своего существования, отдавать предпочтение лучшим условиям существования» [1-21] [1-21] Там же. С. 74.
. Эти правила «естественны, отвечают исторически сложившейся социо-биологической природе человека и человеческих групп» [1-22] [1-22] Там же. С. 72.
.
Вариации на тему «своя рубашка ближе к телу» — излюбленный итог многовекового философствования о поведении человека в ситуации конфликта интересов с сородичами. Эгоизм, индивидуализм, утилитаризм — далеко не полный список диагнозов, поставленных Т. Гоббсом (1588-1679), А. Смитом (1723-1790), К. А. Гельвецием (1715—1771), И. Бентамом (1748—1832), Дж. С. Миллем (1806—1873), Г. Спенсером (1820—1903), Н. Г. Чернышевским (1828—1889) и другими выдающимися умами нескольких последних столетий. Человеку свойственно радовать себя за счет окружающих. Поверим. Но нас сейчас интересует не человек вообще, а советский гражданин середины 80-х. Если он руководствовался принципом homo homini lupus est, чем скреплялось отмеченное Зиновьевым коллективное «Я»? Ответ философа несколько скандален, но психологически достоверен: царящие в среднестатистической ячейке взаимное насилие, унижение, контроль, холуйство, очковтирательство, стяжательство венчаются единением ее участников под девизом «все мы ничтожества» [1-23] [1-23] Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность. С. 150.
. «Человек должен быть испачкан окружающими (близкими!) со всех сторон, чтобы быть своим... Взаимное опошление есть одно из самых страшных явлений коммунизма» [1-24] [1-24] Там же. С. 151.
, «причем индивид добровольно насилуется другими, ибо сам участвует в насилии над ними» [1-25] [1-25] Там же. С. 150.
. И словно бы отвечая на вопрос о распространенности сплочения посредством взаимоосквернения: «двуличность, доносы, клевета, подсиживание, предательство суть не отклонение от нормы, а именно норма» [1-26] [1-26] Там же. С. 86.
.
Тянет спросить: была ли названная норма единственным регулятором внутриколлективных взаимоотношений? Ответ Зиновьева был бы наверняка отрицательным: наряду с коммунальным он выделял деловой и «менталитетный» аспекты жизнедеятельности социальных организаций [1-27] [1-27] Зиновьев А. А. Логическая социология. С. 71
. Оно и понятно: возможность доносить и клеветать предполагает неслучайное и личностно значимое сосуществование в пространстве и времени, здесь — соучастие в общественно нужной работе, требующей разделения и координации индивидуальных функций, словом, разного рода сотрудничества. Обеспокоенности личным благополучием оно не отменяет, но ограничивает разгул коммунальных страстей в ситуации вынужденного контакта. Судачили, лицемерили, предавали? Вероятно. Но и учили, лечили, строили, варили сталь и добывали уголь. «Коммунизм мыслился лучшими людьми прошлого как такая организация жизни людей, в которой люди вместе трудятся, вместе развлекаются, вместе переносят трудности, вместе радуются удачам. В которой все распределяется поровну и по справедливости, в которой все живут открыто, на виду друг у друга, живут душа в душу, помогают друг другу, заботятся друг о друге, любят друг друга... Такая коммунистическая ячейка, — резюмирует Зиновьев, — есть пустая абстракция» [1-28] [1-28] Зиновьев А. А. Коммунизм как реальность. С. 151.
. Согласны, трудовые коллективы 80-х идиллией не были, хотя вместе трудились, гордились сделанным, огорчались и радовались да и жили на виду друг у друга. Отсутствие безоглядной любви и неусыпной заботы, возможно, кого-то ранило, но происходило это именно потому, что коллектив оставался главным пространством жизни советских людей. Представления о себе и мире строились на основе не столько закрытого от других, сколько разделяемого с ними жизненного опыта.
Немаловажной его частью, что убедительно показал историк и политолог О. В. Хархордин [1-29] [1-29] Хархордин О. В. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб., М., 2002.
, было всеобщее опасение «недремлющего ока» всевластного коллектива, провоцирующее притворство, симуляцию, утаивание, демонстрацию потребного и прочие роднящие «грешников» способы социальной мимикрии. Впрочем, в первой половине 80-х гг. это опасение утратило фобический характер. «К концу брежневского правления пирамида коллективов составляла костяк советского общества, и лишь относительно небольшое количество внешнего насилия требовалось для поддержания упорядоченных связей между ними и для наказания отщепенцев, «выпадавших» из коллективов. После применения фундаментального насилия при создании новой системы коллективистской жизни совсем немного его было нужно для устойчивого функционирования этой системы. Секрет стабильности заключался в том, что каждый коллектив функционировал как квазирелигиозная организация, используя некоторые новозаветные принципы для поддержания мощной системы кругового социального контроля внутри коллектива» [1-30] [1-30] Хархордин О. В. Основные понятия российской политики. М., 2011. С. 95.
. Сходство советского коллектива с «православной конгрегацией» О. В. Хархордин усматривает в близости способов поддержания групповой дисциплины. Горизонтальный исправляющий надзор, где вместо «деспотизма начальника — унизительная слежка соседа и тирания праведного увещевания, преподносимые как дружеская помощь» [1-31] [1-31] Там же. С. 98.
, присущ и унаследованной от А. С. Макаренко технологии наведения порядка в советских коллективах, и правилам монашеской жизни, составленным и реализованным в XVI в. преподобным Иосифом Волоцким.
Интервал:
Закладка: