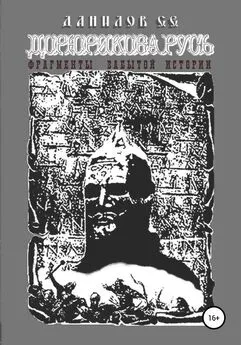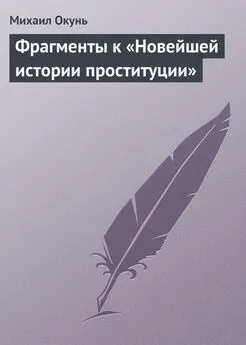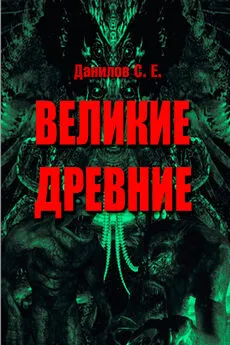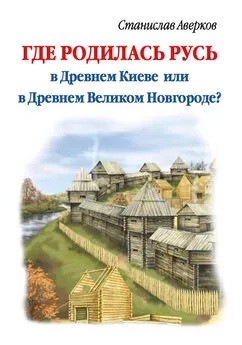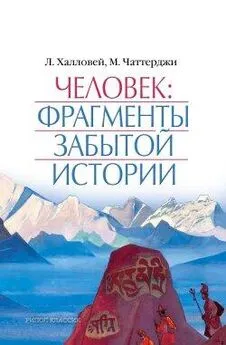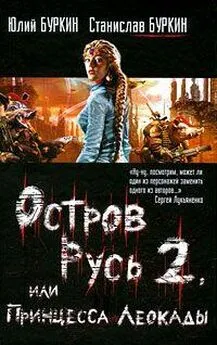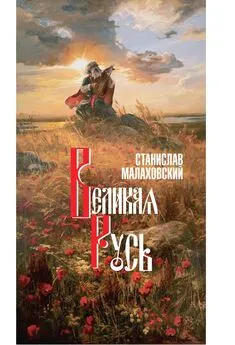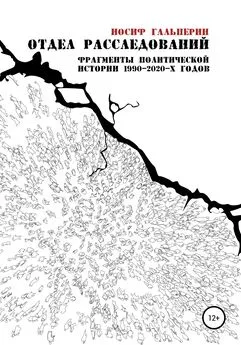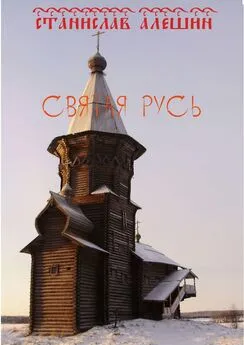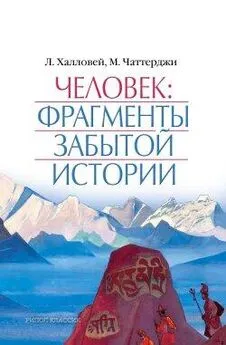Станислав Данилов - Дорюрикова Русь. Фрагменты забытой истории
- Название:Дорюрикова Русь. Фрагменты забытой истории
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2022
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Станислав Данилов - Дорюрикова Русь. Фрагменты забытой истории краткое содержание
Дорюрикова Русь. Фрагменты забытой истории - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Отрывок ПВЛ рисующих русь как жестоких варваров, убивающих и грабящих христиан, вполне отчетливо обозначает новую идеологическую перспективу, в которой составитель Начального свода строит свою версию начала русской истории, – это византийская, имперская перспектива. В ней определяется и дата «начала земли Русской» – вычисленный (неверно) на основе Хронографа год воцарения Михаила III, при котором русь совершает свой первый поход на Царьград, начиная, таким образом, отсчет своего исторического бытия. Современные исследователи ПВЛ справедливо подчеркивают символический аспект выбора такого «начала», предполагая, что на Руси историческая фигура Михаила III ассоциировалась с последним царем «Откровения Мефодия Патарского», имеющим явиться и установить свое праведное царство в преддверии конца света.
Заимствование из Хронографа описаний двух походов руси на Царьград, вставка пассажа о язычестве полян, разбиение повествования по княжениям, вычисление даты «начала земли Русской» и введение самого этого понятия – характеризуют идеологическую программу его составителя довольно отчетливо. Эта программа, обоснование которой дано в Предисловии, ориентирована на модели византийской хронографии и апокалиптики и рассматривает историю Русской земли в перспективе, которую можно определить, как «имперско-эсхатологическую».
В некоем роде это сценарий, делавший акцент не на «начале», а на происхождении, истоках Русской земли, древности ее этнической истории, восходящей к библейскому разделению языков. Однако этногенетический интерес составителю Начального свода был чужд, история избранной Богом в «последние времена» Русской земли для него не нуждалась в предыстории – ее естественнее было начать «с чистого листа», в момент первого появления руси у стен Константинополя. Главное «открытие» составителя Начального свода – «начало земли Русской» – стоило того, чтобы сделать его абсолютным началом летописи. В этой ситуации – и, как представляется, только в ней – отказ от космографического введения был вполне оправданным композиционным решением.
Нужно заметить, что в принципе два подхода совсем не исключали один другого: в Хронографе по великому изложению, послужившем, по-видимому, источником обоих сводов, имперская перспектива соединялась с библейской, служила ее естественным продолжением [Гиппиус, 2006].
Приведённые мнения названных исследователей, проделавших интересную теоретическую работу над ПВЛ, тем не менее, нисколько не приблизили разгадку главных вопросов начал русской истории, которую ставит Повесть перед своими читателями. Современному массовому и даже учёному читателю, такой стиль изложения является в целом крайне непонятным.
Прежде всего, сразу бросается в глаза момент явно искусственного принижения языческих времен, по сравнению с периодом, следовавшим после принятия христианства и явное незнание летописца ответов на те вопросы, на которые он вроде бы собирается дать ответ: «откуду есть пошла Руская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуду Руская земля стала есть».
Не смотря на тщательные попытки советских учёных (Черепнин, Рыбаков, Лихачёв и т. д.), идти по стопам академика Шахматова и вычленить из текста ПВЛ строки более древних летописных сводов, результат оказался более чем скромный. А главное: достоверности в жизнедеятельности первых русских князей не прибавилось от этого нисколько.
Более того, «А. А. Шахматов, а вслед за ним М. Д. Приселков возводят большинство известий о событиях IX–X вв. к так называемому «Древнейшему летописному своду», однако самое существование Древнейшего свода 1037 г. представляется недостаточно доказанным. Сводчик, работавший в 1037 г., должен был бы с особой подробностью рассказывать о своем времени, в частности о княжении Ярослава. Между тем оказывается, что летописец говорит об его времени кратко и неточно. Наиболее подробно рассказана борьба Ярослава со Святополком Окаянным, но этот рассказ взят из особого сочинения – «Сказания о Борисе и Глебе». Особым повествованием являлся и рассказ о Мстиславе Черниговском, к тому же явно более благоприятном по отношению к Мстиславу, чем к Ярославу («не смяше Ярослав ити в Киев, дондеже смиристася»). Остальные известия о событиях времени Ярослава так кратки, что напоминают записи, сделанные на основании позднейших припоминаний или выдержек из синодиков» [Тихомиров, 1979].
Да, разумеется, в ПВЛ есть набор общих исходных сведений. Например, мы узнаем, что основателем Киева являлся некий Кий, причем Киева не на Днепре, а на Дунае. Для самого летописца это было легендой, причем настолько древней, что он не смог сказать даже намека кем, были родители Кия, кто был его детьми и что с ними стало.
Само имя Кий имело явно неславянское происхождение, поэтому историками предпринимались попытки разыскать реального исторического прототипа в неславянской среде (например, вожди антов и склавинов Хильбудий, Мусокий). Явно созвучие с Кием имеется и у тюркских народов, например, Ала ад-Дин Кей-Кубад I – сельджукский правитель Конийского султаната (1219/1220–1236/1237 гг.). А исследователь Прицак прямо связывал летописного Кия с отцом хазарского вазира (главы вооруженных сил Хазарского каганата) Ахмеда бен Куйа, упомянутого ал-Масуди в рассказе о постоянной наемной армии хазарских правителей: «Ахмад бен Куйа (Киуа) был хазарским вазиром, … что именно Куйа укрепил крепость в Берестове и разместил там оногурский гарнизон» [Данилевский, 1998]. Помимо этого, в поисках можно уйти в гораздо более южные регионы и обнаружить иранскую династию Кеянидов (напр. Кей-Кавус, Кей-Хосров и др.), где основа kay или kauui означала «царь».
Кроме ПВЛ, разумеется, в некоторых летописях встречаются отличные от ПВЛ события, не зафиксированные в ней, оригинальные известия летописных сводов XVI–XVII веков (например, в Никоновской летописи, XVI век), вызывающий огромный интерес [Королёв 2002, с. 5]. Но количество современных работ, анализирующие те или иные разночтения летописных сводов, исчисляются единицами.
Но даже специалисты вынуждены довольствоваться частью лишь таких работ, оставляя в стороне (по незнанию) труды неизвестные им, а ведь любой неизвестный источник, может поставить под сомнения все определенные выводы того или иного специалиста, пытающегося развить определенную концепцию.
Сама ПВЛ состоит из недатированного «введения» и годовых статей разного объема, содержания и происхождения. Эти статьи имеют характер: кратких фактографических заметок о том или ином событии; самостоятельной новеллы; части единого повествования, разнесенного по разным годам при хронометрировании первоначального текста, не имевшего погодной сетки; «годовых» статей сложного состава; повести, присоединенной к краткой заметке и статьи и присоединенных к ней сообщений о событиях.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: