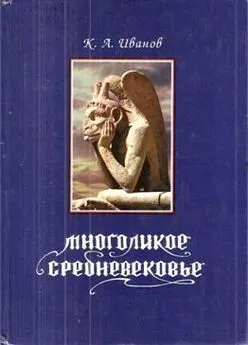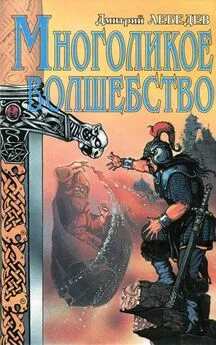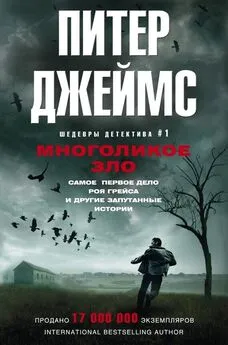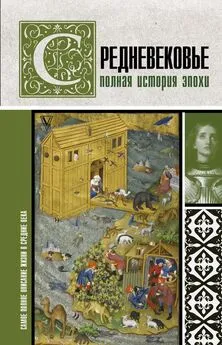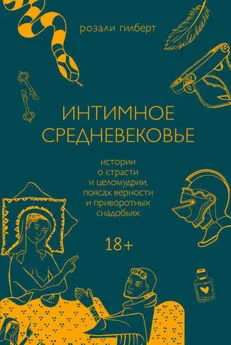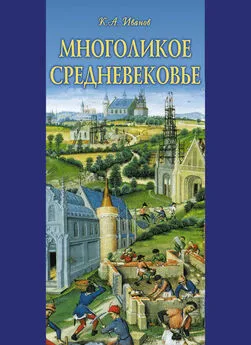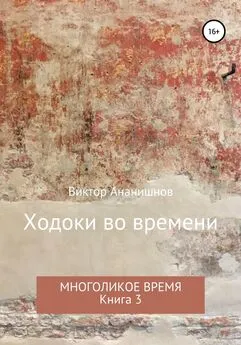А. Иванов - Многоликое средневековье
- Название:Многоликое средневековье
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
А. Иванов - Многоликое средневековье краткое содержание
«Времена не выбирают...» Средние века представляются нам сейчас «темной эпохой», далекой и непонятной. Но перенесемся воображением на семь столетий назад, пройдемся по шумным улицам и площадям средневекового города, окинем взором окрестные луга и пашни, заглянем под своды древних, величественных замков — и мы увидим, что и в это непростое время под тяжелой дланью инквизиции бурлила яа!знь, что за этой завесой скрывается целый пласт культуры, так много давший нам, далеким потомкам. В книгу входят работы директора Императорской Николаевской Царскосельской гимназии К. А. Иванова — «Средневековый замок и его обитатели», «Средневековый город и его обитатели» и «Средневековая деревня и ее обитатели». Написанные ярко и увлекательно, они могут заинтересовать любого читателя, стремящегося проникнуть в тайну той эпохи
Многоликое средневековье - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Прежде всего свободный крестьянин, желавший жениться, заручался согласием на этот брак своих родных, а потом и родных своей невесты. Следующим важным фактом в крестьянской свадьбе было точное определение приданого, приносившегося обеими сторонами. В одном стихотворном произведении XIV века - «О свадьбе Метцы» (von Metzen hochzit) - рассказывается, что невеста принесла жениху в приданое лошадь, козла, теленка, поросенка, корову и три улья пчел, а жених невесте - кусок земли, засеянной льном, двух овец, петуха с курами и несколько денег. Так слагалось будущее хозяйство молодых. Часто свадьба происходила, как описывается и в этом стихотворении, в тот же день. Долгое время она имела характер гражданского акта, гражданского договора между сторонами. И та, и другая сторона выбирали особых свидетелей из числа людей незапятнанной репутации. Какой-нибудь почтенный старик спрашивал в присутствии свидетелей, родных и знакомых жениха и невесты об их взаимном согласии на брак, и все дело ограничивалось утвердительным ответом с их стороны: свадьба считалась совершенной. Б стихотворении «О свадьбе Метцы» говорится, что свадебное пиршество совершилось в доме жениха, так как он отличался своим простором сравнительно с домом невесты. В самом доме поместились все приглашенные на свадьбу, а за дверьми его стояла большая толпа любопытных. Б указанном стихотворении живо рисуется крестьянская свадебная
пирушка. Необходимой принадлежностью ее был музыкант, игравший во все время обеда и после него, пока усердное пот-чевание не лишало его возможности заниматься этим делом. Как в еде, так и в питье крестьяне обнаруживали поразительный аппетит. Блюда, подававшиеся на стол, отличались своей сытностью, всего приносилось в большом количестве, а между тем после окончания обеда не оставалось ни крошки. Усердно истреблялся белый хлеб, пшенная каша, особый соус из репы с кусками сала, жареные колбасы и, наконец, мусс - особое блюдо, приготовлявшееся из овсяной или манной крупы и служившее десертом. Приглашенные на празднество гости жадно накидывались на яства, так что нередко многие из них обжигали себе языки и рты, над чем от всей души хохотали остальные обедающие. О какой-либо опрятности при обращении с яствами, конечно, не могло быть и речи. Обедали до того основательно, что у некоторых гостей лопались пояса, а наиболее благоразумные и осторожные люди распускали их заблаговременно; пили с таким же усердием, так что в следовавших после обеда танцах принимали участие далеко не все участники обеда. По окончании свадебного пиршества невеста отводилась в предназначенный для того покой, причем старалась как молено более ломаться, плакать, кричать «увы» - всего этого требовал обычай.
На следующее утро молодые дарили друг другу подарки, так называемые утренние дары. Только в этот день они отправлялись в церковь, чтобы помолиться о счастии и благополучии совершившегося брака.
Весело движется свадебная процессия по дороге, окаймленной двумя рядами деревьев, в церковь. Эти пестрые наряды под лучами солнца, ярко светящего из глубины голубых безоблачных небес, производят сами по себе впечатление чего-то радостного, торжественного. У каждой из девушек свешивается с пояса пшурок, на который надето небольшое круглое зеркальце в резной деревянной оправе; у невесты даже в резной раме из слоновой кости. Собственно, для устранения дурных примет невесте следовало бы плакать, но слезы у нее затаились так далеко, так далеко, что она никак не может вызвать их наружу. Впереди процессии идут музыканты с тамбуринами и гремят на всю деревню: чем больше шума, треска, тем лучше; этот шум также способен отгонять злые чары. Впрочем, злой человек может и теперь повредить молодым и даже испортить всю предстоящую им жизнь: стоит ему только связать хвостами двух кошек, притаиться где-нибудь под кустом и, когда процессия приблизится к нему, пустить их через дорогу, поперек пути новобрачных. Но ничего подобного не случилось. Процессия без всяких невзгод подходит к церкви, которая весело приветствует ее звоном своего единственного колокола; пономарь не скупится, побуждаемый верным расчетом на угощенье.
Но и святое место, по народным представлениям, не защищало от сглаза и порчи, от всяких грядущих бед. Невеста должна была вступить в церковь правой ногой, во время венчания молодые должны были стоять возможно ближе друг к другу, иначе между ними могли проскользнуть чары, в которых принимали участие не только злые люди, но и сам дьявол. Что последний - по народным представлениям, господствовавшим в средние века, - не страшился церковных или монастырских зданий, в этом можно убедиться хотя бы из следующей легенды. В одном аббатстве молодой монах исполнял обязанности ризничего и в то же время имел главное наблюдение за производством работ по украшению храма, Стены его покрывались рельефными изображениями, представлявшими ад и рай. Между прочими изображениями следовало представить дьявола, набрасывающегося на свои жертвы. Увлекаемый религиозным рвением, монах сам принялся за работу и сделал такую страшную и гадкую фигуру дьявола, что она наводила ужас и чувство омерзения. Дьяволу ужасно не понравился поступок молодого ризничего. Он явился ему во сне и потребовал, чтобы он разломал статую и сделал другую, менее безобразную. Молодой монах не слушался дьявола, хотя последний сделал ему целых три предостережения. Тогда дьявол, не смущаясь ни святыней монастырской, ни религиозностью молодого монаха, навел на него чары, заколдовал его. Монах полюбил молодую даму, жившую неподалеку, и, побуждаемый ею, решился бежать из монастыря, но не с пустыми руками, а захватив сокровища монастырской ризницы. Конечно, тот же дьявол устроил так, что беглеца накрыли и подвергли тесному заключению. Опозоренный, лишенный свободы, молодой инок страдал невыносимо: этого-то и нужно было дьяволу. Он проник в монастырскую темницу и снова стал предлагать ризничему сломать сделанную им статую и заменить ее другой, обещая за это освободить его от всяких невзгод и вернуть ему его прежнее положение в монастыре. Ризничий дал торжественное обещание. Тогда сатана освободил его от оков и привел его в келью. Когда наутро монахи нашли бывшего ризничего спокойно почивающим в своей постели, а после его пробуждения услышали решительное отрицание всего происшедшего, они изумились и направились в темницу. Что же тут предстало перед ними? Они увидели самого сатану в цепях; он потешился над ними, показал им различные штуки и скрылся, как будто его и не бывало вовсе. Монахи решили тогда, что все происшедшее - только наваждение злого духа, что на самом деле ничего не произошло, что их ризничий по-прежнему чист душой. Ризничий, вернувший себе прежнее положение, исполнил данное сатане обещание и заменил безобразную статую другой, которая удовлетворила дьявола. Рассказ этот предлагался вниманию рыцарства и горожан. Рыцари и особенно горожане потешались, слушая подобные рассказы, а народ еще долгое время относился к ним с полной верой. Крестьянство, освободившееся от более тяжелых повинностей, налагаемых на него феодальными сеньорами, еще долгое время не могло освободиться от ига суеверия, которое в известной степени тяготит его и в настоящее время. Но современное суеверие уже далеко не так многосторонне, как средневековое.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: