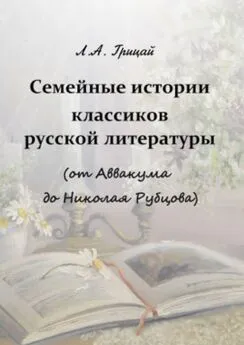Вера Мильчина - «И вечные французы…»: Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы
- Название:«И вечные французы…»: Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:9785444814949
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вера Мильчина - «И вечные французы…»: Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы краткое содержание
«И вечные французы…»: Одиннадцать статей из истории французской и русской литературы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Даже в этих невинных и непритязательных фразах очевидно стремление Местра заострить мысль, блеснуть фразой, поразить собеседника парадоксальным сближением далеких идей (то, что сам Местр называл, ведя речь уже о делах серьезных, «бросить кость» светской публике) 9 9 Слова, которыми Местр в письме к издателю книги «О папе» резюмировал свое отношение к парижским читателям; процитированы Сент-Бёвом в его очерке о Местре [Sainte-Beuve 1843: 372].
. Этой цели служили не только местровские каламбуры и парадоксы, но еще и сравнения фактов нравственного мира с фактами мира физического. Сам он в первом из писем об народном образовании в России назвал это «аргументами, которые можно пощупать руками» [Maistre 1884–1886: 8, 169], а в письме к Бональду от 1/13 декабря 1814 года обосновал этот свой способ аргументации:
Физический мир есть не что иное, как образ или, если угодно, повторение мира духовного: поэтому, изучая один, можно одновременно познавать и другой. Капля воды, умещающаяся в девичьем наперстке, способна, будучи превращена в пар, взорвать бомбу. То же самое происходит и в мире духовном: возьмем мысль, мнение, согласие умов; в обычном состоянии они остаются мыслью, мнением и согласием умов, но стоит их раскалить, и эти спокойные чувства обращаются в энтузиазм, фанатизм, одним словом в страсть (добрую или злую), а приняв эту новую форму, способны двигать горами [Maistre 1851: 1, 242] 10 10 Ср. сходную формулировку в «Четырех главах о России» [Maistre 1859: 93].
.
«Аналогизм» местровской мысли уже становился предметом рассмотрения исследователей, которые давали ему диаметрально противоположные оценки: Робер Триомф видит в нем улику, позволяющую обвинить Местра в лицемерии и различить в его спиритуализме «утонченный материализм» 11 11 Выражение Кюстина [Custine 1956: 241], которое Триомф поставил эпиграфом к своей книге; см.: [Triomphe 1968]. О местровских метафорах см.: [Triomphe 1968: 592–596].
; Пьер Глод [Glaudes 1997: 24–25], напротив, считает «аналогизм» инструментом местровской мысли, позволяющим приблизиться к истине (взгляд, по нашему мнению, гораздо более тонкий и верный). Впрочем, оба – и гневный обличитель, и тонкий аналитик – черпают примеры в основном из крупных философских трактатов Местра, таких как «Рассуждения о Франции» или «Санкт-Петербургские вечера»; между тем для наших целей важнее показать, как активно использовал Местр тот же самый прием в разговорах , стремясь, с одной стороны, разъяснить свою мысль, что называется, «на пальцах», но в то же самое время – удивить и ошеломить слушателя.
О том, как это происходило, мы можем узнать и из свидетельств очевидцев, и из писем самого Местра. 10 января 1807 года начинающий литератор С. П. Жихарев записал в дневнике:
Граф де Местр точно должен быть великий мыслитель: о чем бы ни говорил он, все очень занимательно, и всякое замечание его так и врезывается в память, потому что заключает в себе идею, и сверх того, идею прекрасно выраженную; например, говоря о некоторых своих знакомых из высшего круга, он сказал, что очень любит и уважает их, а между тем видится с ними редко, потому что характеры их, как некоторые химические тела, очень хороши сами по себе, но никогда не соединяются с другими [Жихарев 1955: 318] 12 12 Эта метафора, почерпнутая из химии и проводящая параллель между феноменами психологическими и химическими, в наследии Местра не единична; он прибегал к ней и в переписке; см., например: [Maistre 1884–1886: 9, 364].
.
Другую реплику Местра, построенную по той же схеме, мы знаем из его собственного донесения королю Сардинии от 26 февраля / 10 марта 1810 года. Сообщив, что его письма можно, ничем не рискуя, опубликовать хоть в Париже, хоть в Петербурге, хоть в Кальяри, Местр продолжает:
Тем, кого удивляет мой прямой и уверенный тон, я отвечаю сравнением, кажущимся мне справедливым. Я говорю, что, когда бы в кармане у меня был кинжал или пистоль, я бы не желал, чтоб кто-нибудь приближался ко мне, садился со мною рядом и меня ощупывал; но поскольку я знаю, что в карманах у меня только носовой платок и записная книжка, я готов вывернуть их перед всяким, кому любопытно их содержимое [Maistre 1884–1886: 11, 409] 13 13 Неточно процитировано Сент-Бёвом [Sainte-Beuve 1843: 369].
.
В письме к шевалье де Росси от 15/27 августа 1811 года Местр с помощью того же «сравнительного» метода оспаривает новые законы Сперанского:
Есть вещи правильные и справедливые, которые, однако, не следует произносить и тем более – писать. Если бы меня спросили: должен ли отец распечатывать письма сына, – я ответил бы: «Разумеется!..» Но если вы зададите мне вопрос in concreto, как выражаются в школе: «Рекомендуете ли вы мне распечатать вот это письмо моего сына, кажущееся мне подозрительным?», я отвечу вам: «Папенька, Боже Вас сохрани от такого поступка: потеряете вы наверняка много, а выиграете очень мало или совсем ничего» [Maistre 1884–1886: 12, 55–56].
Сходный аргумент-сравнение, включающий в себя бытовой анекдот, находим в письме к адмиралу Чичагову от 17/29 января 1810 года:
Должен ли (иначе говоря, может ли) человек всегда делать то, что ему угодно? Частенько я вспоминаю словцо, которое было сказано однажды на балу в Филадельфии одной барышне, которая вместо того, чтобы занять свое место в кадрили, болтала с понравившимся ей кавалером. Так вот, некий тамошний церемониймейстер сказал ей с самым суровым видом: «Барышня! Вы что же, забавляться сюда пришли?» Наша жизнь – точь-в-точь этот бал. Мы явились на свет вовсе не для того, чтобы забавляться, а для того, чтобы танцевать кто что умеет: один – менуэт, другой – вальс и проч. Сколько бы мы ни говорили: «Я устал, мне не с кем танцевать, партнер у меня увалень, оркестр фальшивит и проч.», – все это ровно ничего не значит: танцевать надо непременно, и уволен от этого лишь тот, кто танцевать не умеет [Maistre 1884–1886: 11, 395].
Тому же адресату Местр сообщает в письме от 17/29 января 1810 года, что на великий вопрос, вращается ли Земля вокруг Солнца, наилучшим ответом был бы тот, который дал садовник из его родного края: «Конечно же, это Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот; ведь никто не станет вращать огонь вокруг жаркого» [Maistre 1884–1886: 11, 396] 14 14 Образ, запавший в память русскому католику Августину Голицыну [Golitsyn 1863: 73].
.
В письме Яну Потоцкому от 16/28 октября 1814 года в той же образной манере изображена наука —
грандиозный пикник, в котором каждый принимает участие, готовя собственное блюдо. Все блюда должны быть вкусны – об этом участники обязаны позаботиться; но далеко не каждый участник может изготовить любое блюдо, какое пожелает: омлет готовит лишь тот, кто запасся яйцами [Maistre 1884–1886: 12, 457].
Дочери Констанции Местр в 1808 году объясняет, отчего женщины не должны стремиться подражать мужчинам, с помощью следующего образа:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:




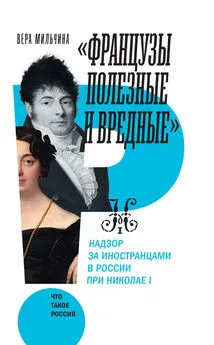
![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/1143259/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati.webp)
![Коллектив авторов - Век диаспоры. Траектории зарубежной русской литературы (1920–2020). Сборник статей [litres]](/books/1149037/kollektiv-avtorov-vek-diaspory-traektorii-zarubezh.webp)