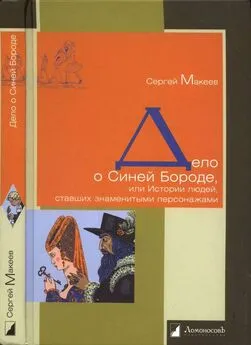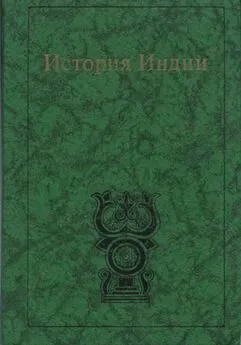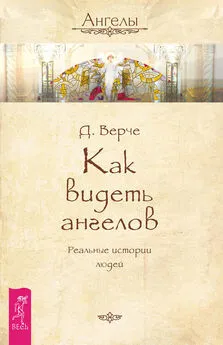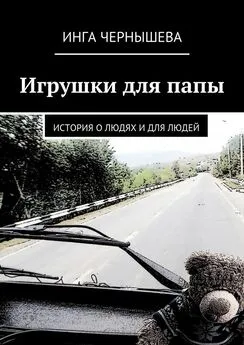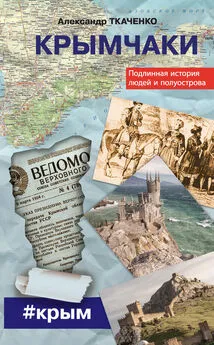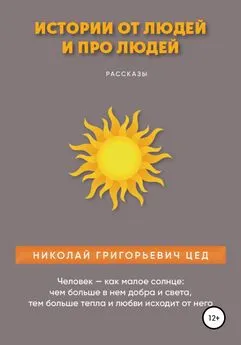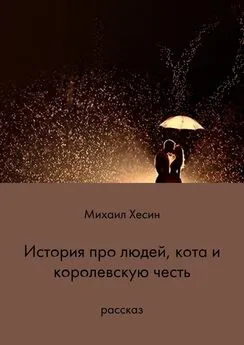Антон Антонов - История людей
- Название:История людей
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Антонов - История людей краткое содержание
Сетевая версия «Истории Земли» — это по сути дела эксперимент, который состоит в написании книги на глазах у читателей. В сеть переносятся главы черновой рукописи, а иногда новые главы пишутся прямо на компьютере. Позже многие из них исправляются или переделываются, так что каждое обновление раздела «История Земли» вносит немало изменений в текст.
Хотелось бы, конечно, создавать книгу не просто на глазах у читателей, но и при их участии. Так что если у кого-то есть замечания, аргументы, идеи, тезисы, мысли по поводу или свои теории — пишите мне на sandomir@mail.ru или в Гостевую книгу.
История людей - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Правда, словечко «была» здесь — прямое заимствование из русского языка, так что попробуем построить фразу более примитивно: «Моя вчера охота ходи».
Пока «вчера» означает «в предыдущий день», это слово не превращается в служебную частицу. Однако тут может произойти две вещи. Например, для обозначения предыдущего дня может появиться новое слово. Допустим, «накануне» или просто «канун».
В этом случае слово «вчера», освобожденное от основного значения, сохраняет только служебную роль. И фраза «Моя вчера охота ходи» означает уже просто «я ходил на охоту» — без уточнения даты. А чтобы сделать акцент на времени события, надо сказать «Канун моя вчера охота ходи».
А может случиться и нечто иное. Слова, которые используются в роли служебных, имеют свойство редуцироваться. И «вчера» в беглой речи вполне может превратиться в какое-нибудь «чра». В результате из одного слова получается два — одно полновесное, а другое служебное. Фраза «Я вчера ходил на охоту» будет переводиться на этот язык так: «Вчера моя чра охота ходи».
Отметим, что если в двух племенах, выделившихся из одного и утерявших контакт друг с другом, совершенствование грамматики пойдет по разным путям, то это приведет к диалектным различиям. Получится, что в одном языке прошедшее время образуется с помощью частицы «вчера», а в другом — с помощью частицы «чра», а это примерно так же сукщественно, как различие между русским «ходил» и украинским «ходив».
Между тем по мере накопления служебных частиц, не имеющих самостоятельного значения, язык из корнеизолирующего превращается в аналитический.
А теперь представим, что может произойти с грамматикой дальше, уже не на примере гипотетического «моя-твоя-болтай», а на примере литературного русского языка.
В русском языке есть свободная аналитическая частица «таки». Обычно она употребляется в слове «все-таки», но может быть использована и напрямую с глаголом. «Он все-таки пришел к нам» = «Он пришел-таки к нам».
Однако эта частица может употрбляться и в отрыве от глагола, что и делает ее свободной. «Он таки пришел к нам» или даже так: «Он таки после некоторого размышления пришел к нам».
Заметим, впрочем, что последние два варианта употребляются преимущественно в письменной речи, а она вообще более консервативна. А теперь допустим, что письменности нет, а в устной речи свободное употребление частицы «таки» исчезает. Что произойдет в результате? А в результате образуется устойчивая неразрывная форма «глагол+таки». Письменности, как мы помним, нет, но если бы она была, то слово «пришел-таки» можно было бы писать без дефиса: «пришелтаки».
Таким образом частица «таки» переходит из сферы синтаксиса в сферу морфологии, и это приводит к появлению новой формы глагола с самостоятельным грамматическим значением, причем достаточно сложным («он мог бы не прийти, но пришел»). Причем форма эта уже не аналитическая, а флективная.
По мере накопления флективных форм язык может превратиться в агглютинативный или фузионный.
К агглютинативным языкам относятся тюркские, где, например, слово «кыз» — девушка — склоняется так: «кызга» — девушке, «кызлар» — девушки, «кызларга» — девушкам. То есть частица «-га» обозначает дательный падеж, а частица «-лар» — множественное число.
К фузионным языкам принадлежат все древние и многие современные индоевропейские языки — например, русский, где в слове «девушкам» окончание «-ам» обозначает и падеж и число одновременно.
Одно из таких превращений полнозначного слова в служебную частицу, а затем в окончание произошло в славянских языках практически на глазах историков.
В праславянском языке существовали только краткие прилагательные, которые морфологически не отличались от существительных и были в таком виде унаследованы всеми славянскими языками, включая древнерусский. «Девица-красавица Аленушка полюбила добрамолодца Иванушку».
Однако по правилам современного русского языка такое словоупотребление считается архаизмом. Положено говорить и писать «доброго молодца». Откуда же взялось это прилагательное «доброго», которого не было в праславянском языке?
Все очень просто. В праславянском языке было местоимение «и», равнозначное слову «он» или «этот». В косвенных падежах оно до сих пор сохранилось в русском языке: «его», «ему», «их» и т. д. Но уже на ранней стадии развития славянских языков это местоимение выполняло также роль определенного артикля, который обычно употреблялся после прилагательного.
Соответственно, фраза «этот добрый молодец» по-древнеславянски могла звучать так: «добръ-и молодец», что в результате фонетических изменений превратилось в «добрый молодец». Точно так же и в родительном падеже: «добра его молодца» в результате редукции превратилось в «добраго молодца». Так, кстати, и писалось до революции, и в этом отношении реформа 1918-го года отступила от логики.
Но суть не в этом, а в том, что по сути уже в историческое время в славянских языках образовалась новая флексия, новая система склонения прилагательных.
На первый взгляд все это может показаться усложнением граматического строя. Но на самом деле это — особая форма упрощения, связанная с особенностями речевого автоматизма. Человек бессознательно стремится к экономии речевых усилий, и ему проще произносить конструкции с одним и тем же грамматическим значением всегда одинаково, а не строить фразу каждый раз по-новому. И в результате такие конструкции омертвляются, становятся неразрывными. Служебная частица сливается с полнозначным словом, и возникает флексия.
И хотя объективно грамматика языка на самом деле становится сложнее, носители языка этого не замечают в силу постепенности процесса. Осваивая язык, дети воспринимают новые ящзыковые конструкции, как существующие изначально, и усваивают их без всякого труда.
Таким образом, можно сделать вывод, что стремление к минимизации речевых усилий ведет к объективному усложнению грамматического строя языка, в ходе которого корнеизолирующий язык может превратиться в аналитический, а аналитический — во флективный.
Однако этот процесс может и не дойти до завершающей стадии — и тогда появляется язык типа китайского — с одной стороны, корнеизолирующий, но с другой стороны, достаточно сложный для сколь угодно точного выражения любой мысли.
А может произойти и нечто иное. Например, изначально сложный флективный язык начинает вдруг упрощаться.
Почему это происходит?
С одной стороны, на этот процесс может оказывать влияние фонетика. Например, если в результате редукции заударных гласных все падежные окончания сольются в одно (например, как у русского слова «ночь», где окончание трех падежей — родительного, дательного и предложного — одно и то же — «и»; можно представить себе дальнейшее развитие этого процесса) — то падежные отношения придется выражать другим способом, скорее всего — аналитическим, с помощью предлогов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: