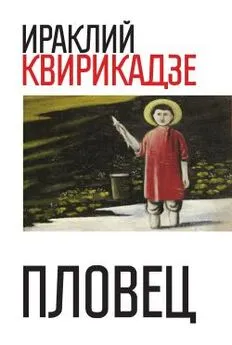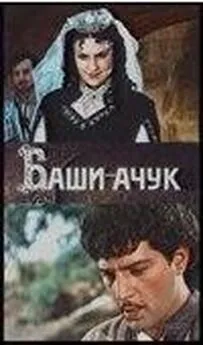Ираклий Церетели - Кризис власти
- Название:Кризис власти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Ираклий Церетели - Кризис власти краткое содержание
Ираклий Церетели в своей книге удивительно точно передает атмосферу первых дней революции, яростный накал идеологических страстей и непримиримое противоборство партии, сводившее на нет и так довольно слабое стремление демократических сил к объединению. Подведя итог самым кризисным моментам двух революций, И.Г.Церетели отвечает на главный вопрос: почему не устояла коалиция и демократические партии потерпели полное поражение?
Кризис власти - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на то что силы контрреволюционной буржуазии не давали революциям развиваться, мы знали, что восстания пролетариата, даже приводившие к поражениям, оставляли глубокий след в сознании масс и служили источником вдохновения в их вековой борьбе за демократию и социализм, – в той борьбе, которая определяла весь социальный и политический прогресс прошлого столетия.
«Революция не знает врагов слева» – таково было идейное завещание, полученное нами от великих народных движений прошлого. Оно пропитало все наше мышление. Работая над свержением царского режима, мы в своих рядах вели борьбу против максималистских течений, но не в них мы видели опасность для торжества будущей революции. Когда мы думали о тех реальных опасностях, которые могут встать на пути революции после свержения царизма, то нашему воображению всегда представлялся какой-нибудь новый Кавеньяк, ведущий вооруженную солдатчину против рабочих.
Но Февральская революция совершилась в условиях, не похожих на те, в которых проходили прежние революции. Это была первая буржуазная революция, во главе которой стояли социалистические партии, представлявшие передовые элементы рабочего класса и крестьянства и за которыми шли огромные массы этих двух классов. С самого начала было ясно, что у буржуазии нет никакой возможности помешать осуществлению широких демократических реформ, к которым стремились народные массы. Влияние демократических идей было так велико в народе и в армии, что даже самые консервативные элементы буржуазии не осмеливались оказывать им противодействие.
В результате в России создалось положение, перед которым никогда раньше не стоял пролетариат в ходе буржуазных революций. Демократическими методами, в союзе с революционным крестьянством и демократическими элементами буржуазии пролетариат мог сразу начать осуществление самых широких реформ благодаря той руководящей роли, которую он играл в государственных учреждениях революционной страны. Выборы в местные органы проходили в обстановке абсолютной свободы, по самому совершенному избирательному закону, и эти выборы всю полноту власти на местах передавали в руки самого населения. Армия тоже была перестроена на демократических началах, и ее ни в коем случае не могли использовать против народа. Рабочее законодательство обеспечивало пролетариату права, которые в передовых странах были добыты лишь вековой борьбой. Землевладение фактически было взято под контроль местных демократических организаций в ожидании созыва Учредительного собрания, которое должно было провести великую аграрную реформу.
Повторяю то, что говорил уже раньше: нами было совершено немало ошибок в проведении этой программы. Трудности внешние и внутренние, неопытность демократии, глухое сопротивление буржуазных кругов – все это сильно замедлило работу руководящих органов революционной демократии в осуществлении программы реформ. Но основное направление политики было правильно и отвечало насущным стремлениям огромного большинства народных масс. И потому не было такой силы, которая могла бы остановить полное социально-политическое переустройство страны, пока трудящиеся массы оставались на демократической почве.
Для консервативных элементов буржуазии оставалась только одна надежда – надежда на то, что рабочий класс, эта душа революционной демократии, сам сойдет с почвы демократического действия и, подталкиваемый крайними элементами, встанет на путь эксцессов, которые запугают и отбросят в ряды контрреволюции значительную часть населения. Отсюда становилось все более ясным, что главная опасность, угрожавшая революции, шла слева, от той максималистской пропаганды, которая не останавливалась ни перед какими средствами, чтобы сорвать работу революционной демократии, восстановить против нее часть трудящихся масс и солдат, наиболее озлобленных бедствиями войны и внутреннего кризиса, и заставить мощное движение демократии выродиться в гражданскую войну внутри демократии.
Большинство революционной демократии отдавало себе отчет в создавшемся положении. Именно в России впервые сложилась та обстановка, которую Карл Каутский так блестяще проанализировал в своей книге «Пролетарская революция». В противоположность тому, что характеризовало революции XIX в., теперь уже не передовые, не наиболее опытные и организованные элементы пролетариата призывали массы к восстанию. Наоборот, эти элементы употребляли все свое влияние, чтобы удержать трудящихся в рамках демократических действий. Силой, на которую опирался Ленин и его генеральный штаб в работе по организации максималистских движений, были элементы наименее сознательные, наименее опытные, не прошедшие никакой школы политической борьбы.
В рядах самой большевистской партии произошел подобный же обмен ролями между «умеренными» и «революционерами»: большинство старых членов партии, интеллигенты и рабочие, которые прошли социалистическую школу, ушли из партии, и название «старый большевик» в устах и под пером Ленина и его друзей стало уничижительной кличкой. Новобранцы, рабочие без всякой политической подготовки, кронштадтские матросы, наиболее деморализованные солдаты – вот к кому обращался Ленин со своей демагогической пропагандой, восстанавливая их против революционной демократии.
Пока борьба между социалистами и большевиками велась на идейной почве, огромное большинство революционной демократии решительно выступало против большевистской политики. Но положение изменилось, когда большевики, воспользовавшись общими трудностями, перешли от слов к действиям.
Вспоминаю вечер, когда мы, министры-социалисты, делали доклад на собрании руководителей большинства Исполнительного Комитета о решении правительства арестовать Ленина и других вожаков июльского восстания. Все как-то растерялись. Либер, наиболее импульсивный из всех, взволнованно воскликнул: «История будет считать нас преступниками!» – и с ним произошел сильный нервный припадок. А между тем Либер был одним из самых решительных противников большевиков, во время восстания называл их «изменниками революции» перед их собственными массами и, оправившись от припадка, о котором я только что упомянул, принял самое деятельное участие в ликвидации большевистского восстания. И если тем не менее такова была его первая реакция на сообщение о решении применить репрессивные Меры против большевиков, то легко можно понять, каковы были настроения большинства наших товарищей.
Хотя все отдавали себе отчет, что наша революция создала совершенно новое положение благодаря фактической гегемонии в ней революционной демократии; хотя в теории все понимали контрреволюционный характер той роли, которую максимализм играл в ходе этой революции, тем не менее первые кровавые столкновения, вызванные большевиками, возродили в настроениях демократии представления, сложившиеся под влиянием всего прошлого пролетарской борьбы, под режимами буржуазных диктатур, и старый призрак Кавеньяка встал перед глазами большинства наших товарищей.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: